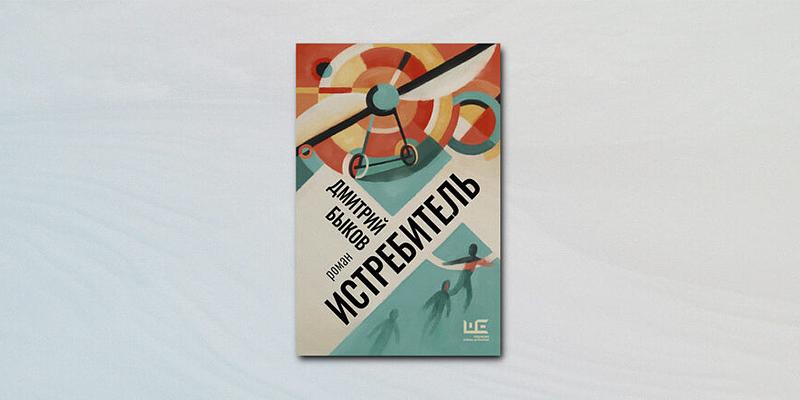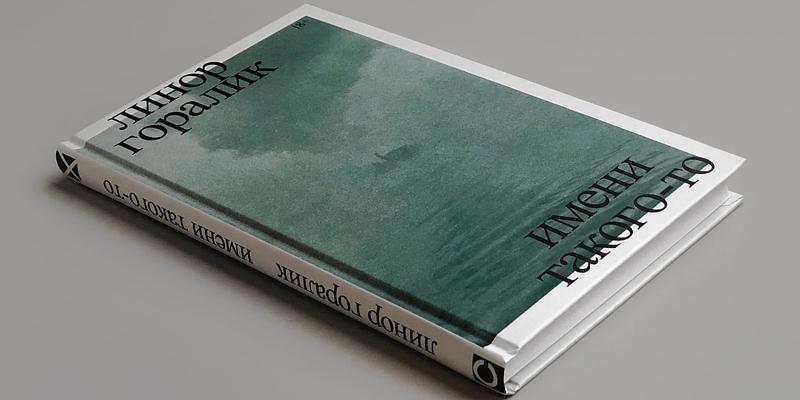У меня не бывает таких проблем, и я могу вам сказать почему. Я не пишу, если проблема меня не достала. Я пишу в порядке аутотерапии. Это мой способ излечиться от болезни – насущной, серьезной болезни, которая меня мучает. «Истребитель» был написан в порядке борьбы с фаустианским соблазном, «Оправдание» – в порядке борьбы с имперским сознанием, а «Икс» – в порядке борьбы с раздвоением личности. У меня возникает проблема, и я ее решаю. Импульс к созданию такого текста не может пройти, как не может сама по себе пройти головная боль. Я действительно борюсь с конкретной болью. Сейчас я перевожу Кунищака, потому что его роман «Март» является моим способом борьбы с синдромом солдата андерсовской армии, который хочет воевать, а он не может воевать, ему не к чему приложить усилия. Потому что того субъекта – имперского, государственного, – от лица которого он мог бы воевать, – такого субъекта не существует. Это Польша 1940 года. Поэтому этот роман, который Господь так вовремя вложил мне в руки, становится средством борьбы с синдромом невостребованности, неучастия, и так далее. Для меня проблематичен тот субъект, от лица которого сегодняшняя Россия могла бы участвовать в мировой схватке, во всемирной.
Потому что та Россия, которую люблю я, обездвижена, парализована или разбросана по свету, она перешла в состояние рассеяния. И она, естественно, не может породить никакого конкретного вмешательства в ситуацию. Только бороться, писать, говорить. Но она не может участвовать в реальных действиях. Другое дело, что чувство своего участия в мировой схватке человеку нужно все равно. Поэтому появляется попытка создания польской армии в 1941 году. Об этом, собственно, роман Кунищака. Они думают создать армию, а вместо этого им Катынь делают. Когда ты хочешь быть борцом, а из тебя делают жертву. Вообще, «Март» для меня – очень важная книга. Я надеюсь, что когда она будет переведена (права на нее приобретены), огромная 900-страничная эпопея станет важным вкладом в русское самосознание. Ну и потом, это заполнит огромные страницы истории, в том числе историю Второй мировой войны.
То есть, видите, для меня литература всегда была, есть и будет терапией. Поэтому у меня не может быть отсутствие мотивации. Мотивация лечиться, когда вы больны, есть всегда. Иначе вам нужно просто смириться с тем, что вы обречены. С этим смириться я не могу.
Как себя заставить мотивироваться, как себе придумать причину? У меня сынок постоянно говорит: «Главное – мотивация» (так говорит мой 3,5-летний сын, он выучил эту фразу). Я не очень понимаю, как себя мотивировать, если не пишется. Я мечтал бы о том времени, когда желание писать, потребность писать не будет у меня столь императивной, когда я не буду прикован к этой тачке. Потому что пока это единственный способ поддерживать себя в каком-то жизнеспособном состоянии.