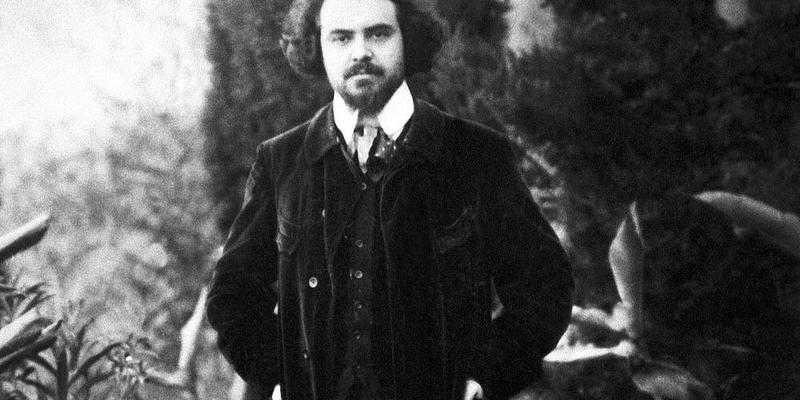Мне всегда был интересен Витгенштейн, потому что он всегда ставит вопрос: прежде чем решать, что мы думаем, давайте решим, о чем мы думаем. Он автор многих формул, которые стали для меня путеводными. Например: «Значение слова есть его употребление в языке». Очень многие слова действительно «до важного самого в привычку уходят, ветшают, как платья». Очень многие слова утратили смысл. Витгенштейн их пытается отмыть, по-самойловски: «Их протирают, как стекло, и в этом наше ремесло».
Мне из философов ХХ столетия был интересен Кожев (он же Кожевников). Интересен главным образом потому, что он первым поставил вопрос, а не была ли вся репрессивная система Сталина большой проверкой страны на вшивость, на прочность. Про формирование Золотого легиона уже придумал я, когда писал «Оправдание». Я не читал Кожева на тот момент, поскольку Кожевников ведь был известен больше всего как гегельянец, а «мы диалектику учили не по Гегелю». Поэтому это была для меня довольно экзотическая вещь. И вот пока мне Розанова не рассказала, что эта идея, оказывается, уже высказывалась. А я понятия не имел, что Кожев написал письмо Сталину, где писал: «Мы понимаем ваши репрессии, мы воспринимаем очень хорошо ваши попытки просеять население через репрессивное сито, мы видим цель и как бы даем вам такую моральную санкцию». Это было занятно, такой извод мысли был занятен. Остальные работы Кожевникова доходили до меня очень мало.
Мне представляются интересными три философских полемики, но я не знаю, философия ли это. Философия в гуссерлианском, строгом смысле, философия как строгая наука, феноменология – это три дискуссии, конечно, не философия. Но три дискуссии ключевые ХХ века, русские – они мне представляются определяющими. Тем более это дискуссии на одну и ту же тему. Это дискуссия Мережковского и Розанова насчет «свиньи-матушки». При том оба – и Мережковский, и Розанов – не философы совершенно. Если Мережковский еще имеет какие-то поползновения, то Розанов – это чистая литература. И даже его наиболее строгая книга «О понимании» является просто более скучно написанной литературой. Это мое мнение, никто не обязан его разделять.
Вторая такая полемика – это Ильин и Бердяев вокруг «противления злу силою», не насилием. Бердяев занял антифашистскую позицию, Ильин профашистскую. Сейчас это уже ни у кого не вызывает сомнений, но, в общем, тот рак России, который сегодня расцвел; та раковая опухоль, которая сегодня устами Дугина и Проханова разговаривает, мыслит даже, в ней идут какие-то мыслительные процессы, – так вот, первыми ее клетками был Ильин и его единомышленники по белому делу. Это никаких вопросов, я думаю, сейчас уже не вызывает.
Третий отголосок этой полемики – это спор Солженицына и Сахарова. Солженицын Сахарова люто не любил, поэтому на его смерть выдавил из себя телеграмму из четырех слов: «Скорблю о невозвратимой утрате». Или «о невозместимой утрате», что-то такое. Вся Россия оплакивала Сахарова, оплакивала не убеждения его (она их не разделяла), но оплакивала его героизм, его подвиг. А вот Солженицын не мог… Может, это он так выражался лаконично. Полемика Сахарова и Солженицына вокруг сборника «Из-под глыб», по поводу эссе «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». Можно было бы добавить полемику Солженицын – Синявский. Название одно чего стоит – «Чтение в сердцах». Гениальная статья. Синявский так припечатал его после статьи Солженицына об «Андрее Рублеве». Ну и после «Наших плюралистов». Кстати, «Андрей Рублев» самому Синявскому как специалисту по русской иконографии не очень нравился. Но солженицынская идеологическая критика, с позиции именно галимой идеологии, а не эстетики его совершенно не устраивала.
Вот эти философские или не философские, но посвященные смыслу жизни работы мне представляются интересными. Никаких интересных философских полемик ХХI век в России пока не породил. Может быть, какие-то статьи Шляпентоха о ценностях и реплики Иваницкой по этому поводу: понятие «ценности», как оно эволюционировало, девальвировалось и что с ним происходит. Но пока я, еще раз говорю, что в России философия съедена политикой, во многом съедена государственной и антигосударственной пропагандой, демагогией. Это все довольно скучно. Я думаю, время чистого мыслительного процесса придет после того, как закончится война. При том, что война может оказаться и мировой, а может оказаться и последней. И тогда не будет в России нового философского ренессанса. Но, я думаю, это будет последняя проблема, которая нас тогда будет волновать.
Из украинской современной философии я много раз говорил, что мне чрезвычайно интересен Баумейстер. Это человек, который является для меня одним из моральных ориентиров, безусловно. Филоненко, конечно, как религиозный мыслитель очень крупный. В Украине сейчас есть такая философия, причем философия, которая существует под обстрелами. Это для философии серьезное испытание. Оно заставляет вспомнить о том, что Витгенштейн вообще-то в окопе писал «Логико-философский трактат». У меня был период в жизни, когда я просто медитировал над одним-двумя афоризмами Витгенштейна в день, пытаясь понять их смысл и прилагать их к своей жизни. Не зря Витгенштейн вполне основательно и вполне резонно писал, что эта книга понятна тому, кто сам думал в этом направлении. Поскольку я в этом направлении думал много – о девальвации слов, – то для меня эта книга была великим подспорьем. Философия, которая пишется в окопах, – великая сила.