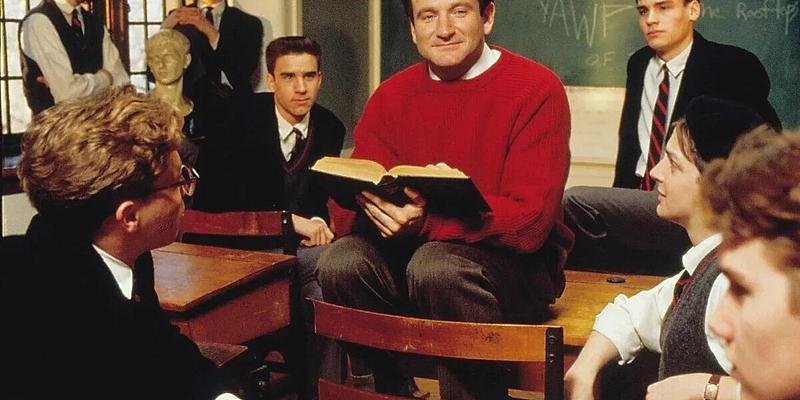Эта киноповесть запомнилась как лучший фильм о школе и из-за чего учителя были вынуждены создавать секты и учить узкий круг заинтересованных слушателей, что стало повсеместным явлением в 70-ые годы. И вот здесь я, честно говоря, теряюсь, потому что многое могу я себе объяснить в российской литературе и кино, но совершенно не могу объяснить, каким образом человек, не имеющий к тому времени никакого литературного опыта, кроме нескольких стихов, написал лучшую школьную повесть, лучший школьный сценарий в русской литературе.
И самое главное, я не могу объяснить, каким образом этот сценарий был поставлен, потому что «Доживем до понедельника» ― это настолько неправильная во всех отношениях вещь, настолько странное произведение, что сейчас, уже пятьдесят лет спустя, вспоминая эту картину, я совершенно не могу понять, про что она. И думаю, что не было это понятно и в 1968 году.
Понимали это только те немногие люди, которые, как и моя мать, в 1967 посмотрели только что сделанную, еще начерно смонтированную картину. Тогда, в 1967 году, ее показали на каком-то московском то ли съезде учителей, то ли совещании. И вот тогда моя мать впервые ее посмотрела. Все учителя были абсолютно потрясены, настолько точно эта картина рассказала об учительском труде и об их состоянии.
И тем не менее понять, про что, собственно, она говорит, было очень сложно. Мы сейчас общими усилиями попробуем смысл этой картины восстановить, хотя сам Георгий Исидорович Полонский, которого я хорошо знал, с которым я дружил в последние годы его жизни, никогда не мог внятно сказать, про что он написал «Доживем до понедельника».
Мы просто все знаем, что это лучший фильм о школе. Регулярно происходят опросы, регулярно учителя, кинокритики, сценаристы отвечают на вопрос «Какой лучший школьный фильм всех народов вы можете назвать?» и называют на первом месте с огромным отрывом всегда эту картину.
Скажу вам больше, когда я мог еще ездить в «Артек», когда «Артек» был еще пусть, конечно, не совершенным, пусть во многом нищим, но все-таки еще относительно независимым лагерем, уже давно не пионерским, конечно. В 2005, кажется, году Игорь Старыгин приехал на местный кинофестиваль и показывал «Доживем до понедельника». Дети, которые учились в совершенно других школах, которые не имели никакого отношения к проблематике этой картины, смотрели ее под непрерывные аплодисменты, так им это нравилось, так это было здорово.
Я тогда, улучив момент, брал у Старыгина интервью и спросил: «Игорь, скажите честно, про что, по-вашему, картина?». Он долго думал, потом сказал: «По-моему, она про то, что этому историку надоело преподавать эту историю». Боюсь, что, может быть, это так и есть.
Я напомню бегло, что это за история, но сначала напомню, кто такой Георгий Полонский. Полонский был очень язвительным, веселым, интеллигентным человеком, всегда небогатым, зарабатывавшим ведением каких-то кружков для молодых драматургов во Дворце пионеров, был женат на красавице из собственной театральной студии. Сын его, Дима Полонский ― довольно известный переводчик, насколько я знаю.
Георгий Исидорович писал стихи с довольно ранних лет, еще когда он был студентом МОПИ, Московского областного пединститута. Эти стихи понравились Светлову, кстати. Потом он закончил Курсы сценаристов и режиссеров. Вы не поверите, но этот сценарий ― его дипломная работа, это первая вещь, которую написал двадцативосьмилетний человек. Представить себе глубину невероятную этого текста и масштаб проблем, которые там затрагиваются ― как это могло быть? Представьте современного человека в 28 лет, пишущего такой сценарий! Инфантилизм задушил бы всё.
Почему «Доживем до понедельника» так сильно на нас действует? Во-первых, потому, что там постоянно звучат очень точные, замечательные репризы. Помните, «после Петра I России очень не везло на царей, это лично мое мнение», «поставишь такому двойку ― из него вырастет Юрий Никулин», «это не метод, когда ребенку дают подзатыльник», «а матери твоей, старухе, всё еще хочется что-то знать, всё еще она не готова помирать и чем-то интересуется» и масса других замечательных эпизодов. «Кроу, кроу, кроу», «вы тоже свинтусы порядочные», «зря играете одинокого пешехода».
Все эти реплики как-то рассыпались, мы их, конечно, помним, но за ними, я боюсь, несколько теряется общая фабула картины. Вот есть Илья Мельников, персонаж, которого по замыслу Полонского должен был бы играть Гердт. Но не тот Гердт, которого мы с вами знаем, к которому мы привыкли, уже почти персонаж комедии масок. Ведь Гердт в 60-е годы был совсем другой. Он стал по-настоящему знаменит после того, как сыграл фокусника в сценарии Володина, замечательно поставленном Петром Тодоровским.
Надо вам сказать, что Петр Тодоровский тогда не был мастером бытовой мелодрамы, он снимал довольно острые, я бы сказал, довольно парадоксальные картины ― «Никогда», в которой, например, впервые сыграл большую роль Евстигнеев. Мы недавно, кстати, с Тодоровским-младшим обсуждали, какой фильм начала шестидесятых можно назвать самым прорывным. Как ни странно, «Никогда», картину, которая во многом предсказала и «Заставу Ильича», и «Июньский дождь», и вообще большинство тогдашних дискуссионных картин, поставила вдруг вопрос о смысле жизни среди производственной драмы.
И вот первой большой работой Гердта в кино стал «Фокусник». Там Гердт молодой, уже седеющий, сильно хромающий после военного ранения, но еще не тот уютный, старый, почти домашний персонаж, почти домовой советского кино, которого мы стали знать после Паниковского. Нет, здесь еще импульсивный, гротескный ученик Плучека, тот Гердт из театральной студии, которая ставила «Город на заре».
Это должен был быть не тот красавец Тихонов, которого мы знаем, это должен был быть человек острый, неожиданный, очень глубоко несчастный, очень одинокий, переживший войну и после войны не нашедший себя, профессиональный историк, который, несмотря на свои блестящие научные результаты (а мы это знаем, он очень глубокий профессионал) почему-то работает учителем в школе.
А почему он работает учителем в школе? Совершенно очевидно, потому что он, как и многие тогда, не может заниматься историей по-настоящему глубоко и серьезно, не может заниматься ей как наукой. История как наука абсолютно цензурирована, поэтому он нашел себе эту единственную нишу ― школьный учитель, который, как и мокрецы у Стругацких в этом же самом году, обращается к детям. Дети ― последняя аудитория, последние, кто еще не испорчен. Он пытается разговаривать с ними.
А нишу эту нашел для него старый фронтовой друг, директор школы, который ― это подчеркивается ― взял его к себе. А почему взял? Видимо, потому что Мельников в какой-то момент лишился работы. Совершенно очевидно, почему он ее лишился. Мог он ее лишиться как космополит, все-таки там есть некоторые намеки на его национальность, а мог лишиться и потому, что он не совсем то исследовал, что надо было.
Знаменитая фраза Мельникова «„Толстой ошибался“, „Шмидт блуждал в потемках“… Можно подумать, что в истории орудовала компания троечников!», великолепные слова, которые после этой картины стали повторяться на все лады. Действительно, все великие деятели истории ошибались, потому что не знали исторического материализма.
Этот учитель, который позволяет себе преподавать историю не как соотношение производительных сил и производственных отношений, а как праздничную историю человеческого духа (помните, по словам Набокова, «праздничную историю»?) ― этот учитель уникален. Вспомните, как он рассказывает о Шмидте, как он увлекателен, какой Шмидт у него живой.
Сам Тихонов, с которым я говорил об этой роли, очень ее боялся, потому что он перед этим сыграл князя Андрея и эту роль ненавидел, считал ее большим своим провалом. Он говорил: «Ну какой я князь? Посмотрите на мои руки». И ведь действительно, невзирая на то, что он сделал всё, что мог, видно было, что роль князя Андрея дается ему нечеловеческим трудом.
Но тем не менее после князя Андрея ему Ростоцкий предложил не то чтобы реабилитироваться в каком-то смысле, предложил роль более органичную ― роль советского аристократа. Вот это интересная на самом деле штука. Роль интеллигента, который вброшен в абсолютно и принципиально не интеллигентный мир.
Помните, там ключевая сцена, когда в учительской одна женщина говорит: «Я говорю: „Не ложите в парту“, нет, они ложат». Он срывается и в ужасе орет на эту женщину: «Нельзя так говорить, нельзя говорить „ложите“!». Потом он, конечно, просит у нее прощения, приносит ей букет. Один из главных лейтмотивов картины ― это бесконечная усталость интеллигента от всеобщего вранья, глупости, хамства, неграмотности. Человека засасывает этот мир, и он поэтому так мучительно раздражен.
Можно сказать, что Мельников переживает кризис среднего возраста, по картине ему 42 года. Но можно сказать и то, что это вместе с ним Советский Союз переживает кризис среднего возраста, вступает в эпоху старения. Потому что главным конфликтом 70-х годов, который Полонский абсолютно точно предсказал, стал конфликт интеллигентности и хамства, конфликт советского проекта с его все-таки устремленностью к просвещению, развитию, работе, какому-то смыслу с засасывающим, затягивающим мещанским болотом, в котором этот проект в конце концов и утонул, которое в конце концов и задушило его. И это ужасно, конечно.
Это ощущение, что Мельников, человек аристократического благородства, большого военного мужества, многочисленных талантов ― вспомните, и рисует, и на рояле играет, и преподает по-актерски виртуозно, всё умеет! Этот человек становится всё большим диссонансом в той среде, той школе, которую олицетворяет завуч, вот эта самая завуч, которая дает писать сочинение «Мое представление о счастье». Совершенно точно Генка Шестопал, на самом деле тайный союзник Мельникова, формулирует: «Счастье ― это когда тебя понимают». А в этом мире уже никто никого не понимает.
«Доживем до понедельника» ― это фильм о том, как распались механизмы понимания. Мы можем, конечно, надеяться на то, что прелестная девушка, которую сыграла Оля Остроумова, в конце концов сделает правильный выбор и от Кости Батищева пересядет к Генке Шестопалу. Но надежда на это слаба, потому что Генка Шестопал ― трагический персонаж, который обречен потерпеть поражение, ему в этом мире никем не стать. Все права, свободы и преимущества на стороне Кости Батищева, лощеного мальчика, абсолютного циника, который идет к победе своей по жизни, отшвыривая побежденных. Вот такого героя сумел сыграть Старыгин, для которого, кстати, это тоже была первая большая роль.
Надо сказать, что действительно уж было поперек души, так это роль Старыгина, потому что более нервного, уточненного, деликатного человека мне видеть не приходилось. И вот этого лощеного циника надо было ему играть. Ему, в общем, кое-как это удалось, отчасти потому, что он учился в одной школе с сыном Тихонова, и когда Тихонов приходил на родительские собрания, млела вся школа, все панически его боялись и восторгались безумно. Поэтому он и старался как мог. Он вспоминает, что действительно всё время чувствовал себя как на экзамене у абсолютного кумира.
Картина получилась очень грустной, и не зря лейтмотивом ее стала замечательная песенка Кирилла Молчанова, стихи для которой написал сам Георгий Исидорович:
Но недаром птица в небе крепла ―
Дураки остались в дураках.
Сломанная клетка, кучка пепла,
А журавлик снова в облаках.
История о том, как Генка Шестопал сжег счастье 9 «В», история о том, как он сжег все эти сочинения и как мечты не достались этой страшной завучихе ― эта история приобрела со временем гораздо более печальные смыслы. Илья Мельников, конечно, не уходит из школы, он в ней остается, но что с ним будет и что будет с учениками ― это вопрос, который остался открытым.
Надо сказать, что работу свою над этой темой Полонский продолжил, написав гораздо более жесткий, аскетичный и безнадежный сценарий «Ключ без права передачи», поставленный впоследствии Динарой Асановой. И вот там ― я даже боюсь об этом говорить, потому что сформулируешь, а потом отмазывайся ― сказана совершенно однозначная вещь. Талантливый учитель в этой школе абсолютно обречен на то, чтобы делать из своих учеников секту. Именно эту секту героиня Прокловой и сделала, ведь это же такой Илья Мельников, только на новом этапе. Хорошо, что положение спасает умный директор, которого замечательно сыграл Петренко, такой простоватый, но добродушный, который как бы знает, как устроен мир.
На самом деле ничего утешительного нет, на самом деле Мельников обречен ― и в 70-е годы это стало повсеместным явлением ― уходить в свою коммунарскую методику, создавать секту, оставаться учителем-новатором, вокруг которого узкий круг посвященных, потому что сделать школу хорошей в большом масштабе ему уже не дают. Он всё равно такой блуждающий огонек на абсолютном болоте.
Трагическое развитие темы одиночки в совершенно замкнутом и безнадежном мире у Полонского прослеживалось на протяжении всей его драматической карьеры. Особенно сильно это звучало в «Репетиторе», самой безнадежной его пьесе, и наконец в финальной, по-моему, гениальной его трагедии, которая называлась «Короткие гастроли в Берген-Бельзен», где единственная харизматичная личность, единственная правдолюбка и талантливая актриса в конце оказывалась банальной сумасшедшей, которую тут же и сбивала машина.
Вывод Полонского оставался бесконечно мрачным, бесконечно печальным. Никакая перестройка, к сожалению, не заставила его оптимистичнее смотреть на вещи. Может быть, в этом смысле более или менее оптимистично выглядит его наиболее известный сценарий последних лет ― «Рыжий, честный, влюбленный», история про рыжего лиса, экранизация шведской сказки, в которой он сумел кое-как ввести мотив надежды. Любовь спасет, цыпленок Тутта каким-то образом спасет этого лиса.
Да и, в общем, Илью Мельникова тоже спасает любовь. У него появляется та самая молодая учительница, которую сыграла Печерникова, та самая его бывшая выпускница, которая, можно надеяться, теперь останется с ним. Но, к сожалению, это не спасет.
Это сценарий о том, что мы дожили до понедельника, что после советского воскресенья, после советской оттепели настал печальный, хмурый понедельник, среди которого всё труднее нести куда-то свои одинокие огни. Но одно могу сказать: как бы печален ни был этот фильм, всякий раз, когда мне не хочется идти в школу, я вспоминаю о нем и иду. В общем, что-то у нас еще получается. Дураки остались в дураках, а журавлик снова в облаках.
Откуда у Полонского в 28 лет был такой опыт?
Могу сказать. Во-первых, Полонский был все-таки очень начитанный, очень умный, не по годам серьезный человек. Когда пишешь стихи в 16 лет, да еще когда Светлову их показываешь, естественно…
В основном, его трагический опыт произошел из-за того, что Полонский работал в школе, сделал там театральный кружок. Ставили они там «Дневник Анны Франк», тогда еще не напечатанный или напечатанный фрагментарно. Им прикрыли всё это, прикрыли и театральный кружок, и «Дневник Анны Франк», и работу самого Полонского, после чего он вынужден был идти на Курсы сценаристов и режиссеров. То есть у него был печальный опыт столкновения со школьной рутиной. Оттуда это всё и взялось.
Еще, конечно, понимаете, есть такая закономерность, особенность дебютного произведения. Когда молодой автор пишет диплом, он пытается туда вложить всё, что умеет и знает. Очень часто первый текст оказывается лучшим. Так получилось у Луцика и Саморядова, первый сценарий которых, «Дюба-Дюба», по-моему, воплотил всё лучшее, что они умели, и они до этого уровня так никогда потом и не допрыгнули.
Понимаете, блажен сценарист, который развивается вертикально, как развивалась, например, Наталья Борисовна Рязанцева, дай ей бог здоровья, или Клепиков. А вот Полонский ― это другой случай. Это человек, который сразу задал поразительно высокую планку. У него другие вещи не хуже, может быть, как «Репетитор», они мне кажутся и серьезнее в каком-то отношении. Но всё, что он умел и знал, он вложил в эту первую вещь, отчасти, кстати говоря, потому, что он был абсолютно уверен: больше у него никогда ничего не получится, ему просто не дадут. И поэтому там так важен диалог в машине, когда Мельников говорит ученику: «Прав ты, Боря, в том, что мой КПД мог бы быть гораздо выше».