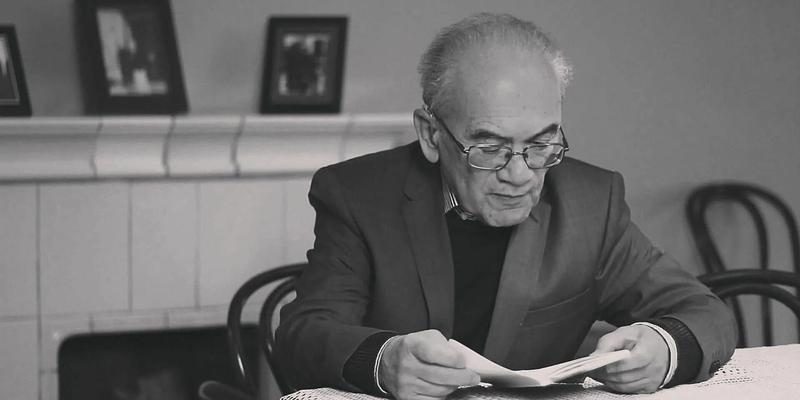Если я начну читать Кушнера, то я его не перестану, не остановлюсь. Я слишком много знаю наизусть.
Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?
Такое в семьдесят, что ли, году, то ли в шестьдесят восьмом. Я от одной строки «четко вижу двенадцатый век» уже начинаю плакать и бить копытом. Конечно, для меня Кушнер очень важный поэт, не сразу им стал, надо было дозреть. Даже я его по-человечески, может быть, полюбил несколько раньше, чем осознал всю его глубину и масштаб. Вот Слепакова понимала, она всегда говорила, что это первый ряд. Я, кстати, в последнее время очень полюбил Городницкого. Почему, кстати? Потому что они оба ходили в одно лето, оба воспитанники Семенова, дружны были все, это был очень дружный круг — и ревность, и зависть их не отравляла. Я потому полюбил Городницкого, что какая-то, вот я бы сказал, негромкая гражданственность. Опыт негромкой гражданственности. Это не говоря уже потому, что несколько стихотворений, несколько песен — это просто бесспорные шедевры. Не слащавая романтика и не громкая, не трубная гражданственность, которая у него есть,— это хороший вкус, ленинградская школа. А Кушнер, конечно, поэт гораздо более сложный, гораздо более эволюционировавший, поэт с историей. Он не зря говорит, что мог бы каждые 10 лет выпускать избранное под новым псевдонимом, и никто бы не заподозрил, что это он. Есть какие-то особенности рифмы, но в целом его стихи семидесятых абсолютно не похожи на девяностые, а то, что он делает сейчас, это совсем отдельный уже откуда-то из действительно почти гармонического состояния, которого он достиг. И с высоты его возраста многие наши склоки представляются смешными. Но я больше всего люблю Кушнера времен «Канвы», времен вот этого избранного семьдесят седьмого, восемьдесят первого годов. Времена «Таврического сада», времен «Дневных снов», как и собственно Лидия Гинзбург любила этот его период больше всего. Ну и очень мне нравится у него книга «Холодный май» из недавних совсем. Геликоновская книга высокого очень класса.
Вид в Тиволи на римскую Кампанью
Был так широк и залит синевой,
Взывал к такому зренью и вниманью,
Каких не знал я раньше за собой,
Как будто к небу я пришел с повинной:
Зачем так был рассеян и уныл?—
И на минуту если не орлиный,
То римский взгляд на мир я уловил.
Нужна готовность к действию и сила,
Желанье жить и мужественный дух.
Оратор прав: волчица нас вскормила.
Стих тоже должен сдержан быть и сух.
Гори, звезда! Пари, стихотворенье!
Мани, Дунай, притягивай нас, Нил!
И повелительное наклоненье,
Впервые не смутясь, употребил.
Это такой тютчевский экзерсис, но дальше идущий в каких-то вещах. Ну я уже не говорю про то, что он иногда на крошечном пространстве ставит проблему такого масштаба. Вот стихи про старого польского педагога:
Больной неизлечимо
Завидует тому,
Кого провозят мимо
В районную тюрьму.
А тот глядит: больница.
Ему бы в тот покой
С таблетками, и шприцем,
И старшею сестрой.
Восемь строк, и как-то весь ужас жизни в них сжат и сконцентрирован. А помните:
Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервозной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех,
Исторически эти неврозы
Объясняются болью за всех,
Переломным сознаньем и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните… ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: — Нельзя ли без нервов?
— Как без нервов, когда они есть!—
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
— Ты припомнил бы мне еще тапки.
— Ведь девятое только число,—
Это жизнь? Между прочим, и это,
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.
Кушнер велик, и я ужасно рад, что в моей жизни есть этот очень зрелый, очень мужественный, очень спокойный, очень талантливый человек. Так умеющий жить со своим талантом, как мало, кто умел. И так полно реализующийся, распространяющий вокруг себя такое все-таки свечение добра.