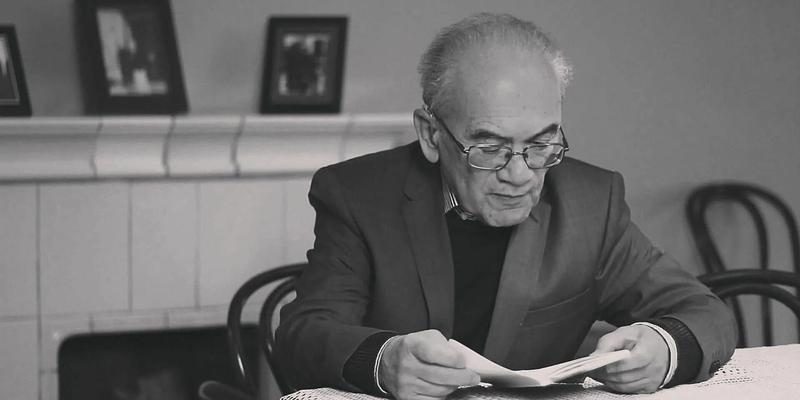Я много говорил о Кушнере. Мне дорог его поэтический мир и не только. Я не очень понимаю, что такое поэтический мир. Ну, скажем так: мне симпатичны пейзажи его стихов, его мысли, его настроения. Мне вообще представляется (как я уже об этом говорил много раз и не боюсь повториться), что 70-е годы в России дали трёх крупных поэтов: Кушнера, Кузнецова и Чухонцева. Продолжали работать очень ярко шестидесятники. Ярче других, на мой взгляд,— Окуджава и Вознесенский. Для Евтушенко 70-е годы были во многом потеряны. Он обрёл себя, мне кажется, позже, как-то старость придала ему силы трагизма. А вот лучший сборник Вознесенского — это «Соблазн». Лучший сборник Окуджавы — это «Март великодушный». Но главные поэты 70-х — это всё-таки вот эти трое. И у каждого своя трагедия.
Что касается Кушнера, то он решил в своё время… Это сознательное, как мне кажется, волевое решение. Хотя я хорошо его знаю, но не берусь утверждать, в какой степени он это рефлексировал, в какой степени он формулировал это для себя, но мне представляется, что это было решение волевое. Он решил отказаться от русской поэтической традиции нытья, и у него начался примерно с «Таврического сада» период лирики счастливой. И в этом смысле он действительно (я не говорю сейчас о масштабах) очень благородно уравновешивал Бродского, который замечательно артикулировал презрение, надменность, одиночество. Кушнер не побоялся стать счастливым. Мы знаем, что несчастные всегда в русской поэзии (и вообще в поэзии) находятся в преимущественном положении, в сильной позиции, а он не побоялся заявить:
Нет ли Бога, есть ли Он,— узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного,— за краем.
Нас устроят оба варианта.
Вот это очень гордая позиция — там, где его раньше не устраивал ни один. Понимаете, ведь ранний Кушнер — это поэт трагический, поэт зудящего неблагополучия, острого, но скрываемого недовольства, поэт желчный. Как замечательно сказала о нём Слепакова:
Ты, о мальчик ущемлённый,
Вечно млеющий и злой,
Вечно тлеющий, бессонный
Уголь, подёрнутый золой.
Вот это ранний Кушнер, Кушнер примерно лет до сорока. А потом начинается, конечно, не то чтобы сплошное благорастворение воздухов, но начинается гораздо большая, гораздо более открытая приязнь к миру, гармоническое с ним примирение. Это тогда очень хорошо отметила Лидия Гинзбург в рецензии на кушнеровский сборник «Дневные сны». Это действительно дневные счастливые сны, поэзия петербургского лета. Петербург ведь не только город тружеников, а это город рекреаций, садов, фонтанов, свободного времени, больших воздушных пространств, невской перспективы.
И вот в Кушнере появилась эта радость — кстати говоря, ничуть не самодовольная. В России есть поэты самодовольной, такой демонстративной, нагловатой радости, но это не самое частое и, в общем, не самое приятное явление. А кушнеровская радость — смиренная, благодарная, полна тонко чувствуемого, неотступного трагизма бытия. И поэтому я очень люблю его сборники 80-х годов: «Живую изгородь», упомянутый уже «Таврический сад», в котором много трагедии, но много и радости. И, конечно, в 90-е годы — в «Летучей гряде», например — там есть совершенно превосходные стихи.
Другое дело, что у Кушнера есть тоже очень уязвимый принцип многописания. Он говорит, что стихи — это как пыль, которая скапливается на полу, на диване, на столе, и вот надо как-то её разгонять. И действительно он снимает этот слой. Дневник впечатлений, каких-то наблюдений — иногда мелких, иногда случайных. Но в этом есть и своего рода тоже благородство, потому что он держит музу в тонусе, он не позволяет себе провисаний, пауз (всегда, кстати говоря, для поэта очень мучительных). Вот мало кто знает, как мучительно для поэта не писать. И поэтому многие, когда они не слышат божественного звука, они просто заполняют бумаги белым шумом. Ну не транслируется мысль. Что поделаешь?
Кстати, тут тоже меня спрашивают сразу же о Кушнере: ритор или транслятор? Нет, Кушнер — ритор, конечно, в том смысле, что он поэт мысли, напряжённо ищущий. Он всегда знает, что он хочет сказать. Но вот в чём дело. Как и все такие питерские невротики (а он, безусловно, в высоком и в хорошем смысле слова невротик, интуит, человек очень чуткий к настроениям и к запахам воздуха), он болезненно чуток к атмосфере, и поэтому… Как бы это сказать, как бы это сформулировать? Он всегда знает, что он хочет сказать, конечно, но интонацию свою определяет не он.
Вот заметьте, это интересный момент (мне это, кстати, раньше не приходило в голову): в очень многих счастливых, демонстративно радостных стихах Кушнера звучит такая тоска иногда, такая надрывная лирическая нота! Как в одном его позднем стихотворении «Я сейчас заплачу». Ничего страшного в стихах не происходит, и более того — он не жалуется никогда. Ему есть на что пожаловаться (как мы знаем, «старость не для слабаков»), но он никогда ни на что не жалуется. А между тем, в стихах всё громче, всё трагичнее, всё надрывнее звучит вот эта нота лирическая, неописуемая, иррациональная нота глубокой тоски, глубокой, почти детской тоски.
И вот за это я его люблю особенно — за то, что его радость всегда не более чем фигура прикрытия. Потому что под этой тонкой коркой, под этой бронёй тонкой и бумажной всегда бьётся, клокочет трагическая лава жизни. Как он собственно сам сказал:
А в-третьих, в-третьих —
Смерть друзей,
Обычный ужас жизни всей,
Любовь и слёзы без ответа,
Ожесточение души,
Безмолвный крик в ночной тиши
И «скорой помощи» карета.
Вот этот фон жизни никуда не девается. Кушнер написал когда-то гениальные восемь строчек:
Больной неизлечимо
Завидует тому,
Кого провозят мимо
В районную тюрьму.
А тот глядит: больница.
Ему бы в тот покой
С таблетками, и шприцем,
И старшею сестрой.
Вот это выбор между двумя невыносимостями, такие две страшные картины, из которых не знаешь, какая лучше. Кстати, это и написано очень хорошо.
Мне в Кушнере… Ну, это мини-лекция, я очень коротко могу о нём только сказать. Я надеюсь, к его восьмидесятилетию мы поговорим подробнее, в сентябре. Но мне очень дорого это постоянное сознание клокочущего ужаса жизни под тонким слоем умственной, умозрительной радости. Меня спрашивают, какое моё любимое стихотворение Кушнера. Совершенно однозначно — «Сентябрь выметает широкой метлой». Сколько бы я его ни читал, я плачу горькими слезами.