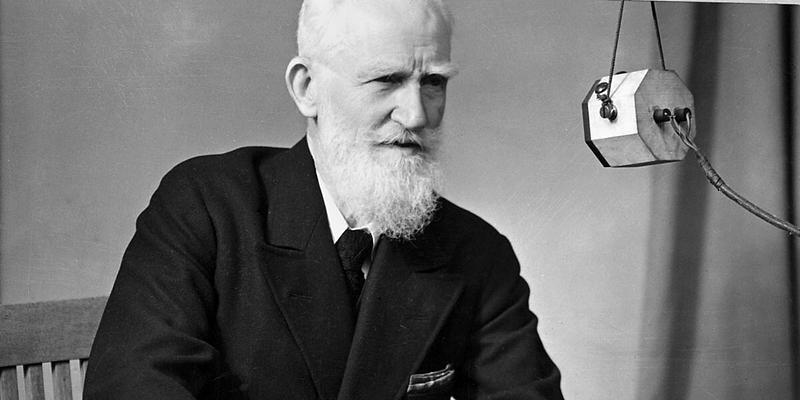Не думаю, что конкретно этого текста, хотя возможно, что и его тоже. Но, конечно, некоторое влияние Киплинга было. Гораздо большее и гораздо более отчётливое влияние Гумилёва:
И пахнет звёздами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева.
— это прямо к Багрицкому перекочевало. Понимаете, Багрицкий — довольно типичный поэт «южной школы». И, как все поэты, прозаики этой «южной школы»… Это такие люди, как Катаев, Ильф и Петров, Гехт, Бондарин, Олеша в значительной степени — те, кого я в разное время называл. Примыкает к ним и Бабель, хотя он, в общем, несколько наособицу всегда. В общем, весь этот «одесский десант» отличается двумя существенными качествами.
Во-первых, в них есть определённый одесский провинциализм (провинциализм, конечно, в хорошем смысле). Одесса — это одна из культурных столиц империи, но всё-таки это столица вторичная по отношению к Петербургу и Москве. Петербургские и московские веяния в Одессе обретают какое-то особое обаяние, воспринимаются очень живо и очень горячо, пропитываются одесским солнцем и какой-то такой одесской неистребимой пошлостью. Это, в общем, ничего плохого о городе не говорит (Одесса вообще один из любимых моих городов), потому что пошлость вполне может быть и эстетическим фактором, такой высокой культурой. В конце концов пошлость есть и в советской литературе 20-х годов, пошлость есть и в Зощенко — как один из инструментов художественного воздействия. Надо пропитаться ею хорошо, чтобы её разоблачать и с ней бороться. Это тоже одна красочка на палитре. Конечно, когда Багрицкий пишет:
Над нами гремели церковные звоны,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг!
— это совершенно сознательная вторичность. Или:
Там, где выступ холодный и серый
Водопадом свергается вниз,
Я кричу у холодной пещеры:
«Дионис! Дионис! Дионис!»
Я всё это запомнил навсегда по книге Катаева «Алмазный мой венец». Кстати, не сильно исказили его память эти строки. Но вот такая пошловатость, вторичность, определённое преломленное влияние севера на юго-западе очень ощутимы. Кстати, именно Багрицкий назвал свою книгу «Юго-Запад», задав две главные координаты «одесской школы». С одной стороны — западная, космополитическая, свободная, авантюрная. Курс на Запад, провозглашённый Лунцем, там тоже очень понятен, потому что все они любят резкую фабулу, любят авантюрных персонажей. Ну а Юг — это, конечно, гедонизм, торжество сочных красок, всё облито этим прекрасным, всепримиряющим южным солнцем; море, которое само по себе замечательно размыкает мир.
В Багрицком, помимо этой вторичности, есть и вторая очень существенная черта «южной школы» — это ирония. О чём, собственно, Евгений Петров в книге «Мой друг Ильф» сказал, в набросках этой книги: «У нас не было истин, всё было скомпрометировано, все мировоззрения были отброшены. Ирония заменяла нам мировоззрения». Ну, это и делает собственно одесский плутовской роман таким глубоко христианским чтением, потому что ирония в таком предельном своём развитии не может не привести к христианству. Христианство само по себе иронично.
Когда Блок боится иронии, он просто говорит об иронии низкой или об иронии пошлой. Но есть и ирония высокая. Она есть и у Багрицкого, который вынужден всё время отрицать то, что он любит, и то, с чего он состоит. Это такие стихи, как «От чёрного хлеба и верной жены». Помните это знаменитое:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах…
Ощущение своей неправомочности, своей конечности, анахроничности, если угодно. В его стихотворении «Разговор с комсомольцем Дементьевым», где всё назойливо повторяется «Подождите, Коля, дайте и мне»,— это такая вечная попытка вставить слово, доказать, что он тоже ещё молодой. Он, кстати, сам признаёт некоторую свою вторичность:
А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак…
Кстати, интересно, что и Сельвинский, и Тихонов — это его ровесники. Но он действительно признаёт, что весь его романтизм — это романтизм довольно книжного и довольно вторичного толка.
Настоящая проблематика творчества Багрицкого, как ни странно, начала проступать только в последние годы, когда он написал «Человека предместья» и в особенности, конечно, «Февраль». «Февраль» — замечательная поэма, недоделанная. Вообще он умер обидно рано. Конечно, его смерть совершенно справедливо Бабель назвал «бессмысленным преступлением природы». Он умер на взлёте. Это мог получиться грандиозный поэт, избывающий по-настоящему всю эту романтическую традицию и начинающий писать очень жёсткие вещи. Мне кажется, что «Февраль» — это прекрасная поэма о том, как формируется это новое поколение и как оно борется за свою любовь. Это то, что Пастернак сказал:
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.
Вот ревность, месть и зависть как основа революционного мировоззрения. Это замечательно всё сделано. Ну, там где он борется за обладание своей возлюбленной, революция даёт ему это обладание.
Мне просто кажется, что слишком трезво и без снисхождения относиться к раннему романтическому опыту Багрицкого тоже неправильно — там много детства. Но вот в чём штука. Ведь поэзия — это то, что даёт нам ощущение иного мира. И вот каким бы книжным ни было стихотворение Багрицкого, скажем, «Птицелов», из которого такую замечательную песню сделал Никитин, во всей книжности этого стихотворения такая невероятная концентрация витальности, силы, очарования!
Так идёт весёлый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.
По Тюринии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.
Это же запоминается, это приятно говорить вслух. Вот Житинский когда-то главной приметой настоящей поэзии назвал такую «фоничность» — приятность произнесения вслух. И действительно она звонкая, лихая. И, конечно, ранний Багрицкий при всей его вторичности очень музыкален, и живописен, и заразителен:
По рыбам, по звёздам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
Берковский не зря из этого сделал песню замечательную. А потом, в Багрицком очень чувствуется этот провинциальный астматик, который мечтает о море, который страшно боится качки, а пишет всю жизнь о качке. Это тоже, в общем, серьёзное противоречие, на котором он стоит,— именно противоречие между Дзюбиным и Багрицким, которое разрывает его всю жизнь. Я же говорю, без большого внутреннего контраста нет настоящего поэта. Так что, конечно, он поэт замечательный.
Насчёт моего знаменитого очень противного действительно учительского выставления оценок, что это первый ряд, а это второй ряд. Я совершенно искренне считаю, что Багрицкий — поэт первого ряда, в отличие от Сельвинского. Вот этот мой с любимым Олегом Коваловым давний, к сожалению, спор… Я вообще Ковалова очень люблю, и мне нравятся все его вкусы и выводы. Он правильно сказал: «Просто проблема в том, что мне нравится кубизм, а вам не нравится кубизм». Да, мне кубизм не очень нравится. Но Сельвинский всё-таки не нравится мне, потому что он эгоцентрик, потому что он любуется собой всё время, и у него вкус хуже, чем у Багрицкого. У Багрицкого вкус очень хороший, вкус начитанного одесского ребёнка.