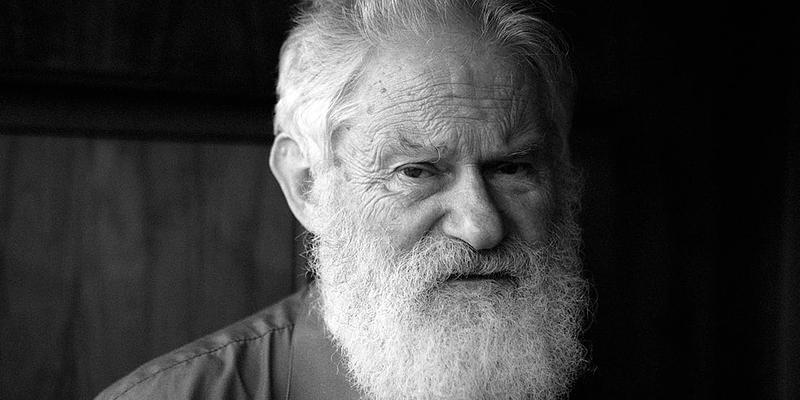Интересен тем, что именно он дал название юго-западной школе одесской. Интересен потому, что одесская школа представлена в основном прозаиками, начиная с Куприна, с которого она, собственно, и началась, и заканчивая Олешей. С поэтами там было не очень хорошо — кроме Анатолия Фиолетова никто на ум не приходит. Они все баловались стихами. Гениально писал Кесельман, но очень мало. Замечательным поэтом в молодости был Катаев, но он потом оставил это дело, за исключением каких-то разовых возвращений к поэзии, иногда совершенно гениальных. Но в принципе, Багрицкий — единственный поэт, который привнес в поэзию черты авантюрной прозы. Он такой гумилевец безусловный, такой одесский акмеист, продолжатель конкистадорских добродетелей, но с ним после 1925-1926 годов при переезде в Москву произошел определенный перелом.
Очень показательно, когда акмеизм переходит в конструктивизм. Он попытался одно время заигрывать с конструктивизмом («Настали времена, чтоб оде потолковать о рыбоводе»), стихи о птицелове, о поэте довольно интересные, но, по большому счету, Багрицкий был шире и талантливее конструктивистов. Кстати, другая одесситка, Инбер, которая и в поэзии, и в прозе одинаково иногда достигала вершин и одинаково останавливалась в шаге от шедевра (тоже любопытный случай самоограничения таланта),— Инбер была одной из конструктивизма, и вот этот пафос строительства, пафос вечной кожаной журналистской курки, которая в самолете летает с летчиками, на плотинах беседует со строителями, поднимается на кран с крановщиками, и так далее,— этот образ был для нее привлекателен и у нее получался. Но Инбер как раз себя уютно чувствовала себя в конструктивизме, рядом с Сельвинским, а Багрицкий был шире и интереснее, конечно, и поздний Багрицкий (времен «Человека предместья» и в особенности «Февраля») дописывался уже до вещей довольно интересных, не похожих ни на что в советской литературе.
Понимаете, он очень остро чувствовал трагедию постепенного загнивания революции, его прозаизации, и тут не только «Стихи о соловье и поэте», но главным образом вот это:
От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены…
Я помню — только что в Питер ездил,— как Никита Елисеев на Фонтанке оглушительно декламировал: «Мы ржавые листья на ржавых дубах». Вот как этого не вспомнить, это блистательный поэт. Но именно разочарование Багрицкого в прозе жизни, в попытках конструктивистского ее освоения, в какой-то степени возврат к собственному раннему революционному романтизму,— это в сборнике, который, по-моему, Волгин составил, хорошо видно. Багрицкого надо хорошо составлять, хорошо и правильно отбирать настоящее. Кстати говоря, «Смерть пионерки», при всех современных попытках в Colta интерпретировать эту вещь как поэму о Голодоморе (я думаю, там этого подтекста нет), там подтекст другой: это возвращение к идеалам молодости, в конце концов. Потому что попытка загнать себя в зеленые листы коленкора, в газетные листы не удалась. Багрицкий находился на грани бунта, и Сева, его сын, очень хорошо это чувствовал, чувствовал эту обреченность.
Багрицкий, как и все это поколение, либо был обречен на молчание, как Олеша, на поиски каких-то новых форм, подпольные поиски новых форм, фрагментарной эссеистики, либо он был обречен на бунт, конечно. И бунт этот в нем очень чувствовался. Я абсолютно уверен, что Багрицкий в новых вещах, как Пастернак в переделкинском цикле, вышел бы на какую-то новую, небывалую высоту. Потому что «Февраль» эту высоту обещает. Понимаете, написать в начале 30-х годов:
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом…
Ведь «содружество ворона с бойцом» — это не чтобы ворон клевал бойца, а это новый тип, в котором ворон оказывается умнее врага, который оказывается хитрее; то, что в чертах самого Багрицкого проявлялось нечто от хищной птицы в последние его годы,— я думаю, это тоже предвестие бунта, предвестие перелома.
Дело в том, что главный пафос Багрицкого 20-х годов — это примирение с действительностью, это попытки в нее встроиться и ей служить. А это не сработало. Больше скажу: это привело к определенному снижению поэтического качества, и его голос как бы хрипло заклокотал в последних сочинениях, в нем появился пафос обреченности. Может быть, он вспомнил о еврейских своих корнях, как вспомнил о них Мандельштам, который пытался всегда от них отгородиться. В «Шуме времени» он буквально проклинает этот юдаизм, которым все проникнуто, которым пропахли все вещи в доме, а через три дома он уже вспоминает, что его кровь отягощена наследием царей и патриархов. «Ты, могила, не смей учить горбатого — молчи!». У еврея есть эта спасительная идентичность.
Кстати говоря, Багрицкий был редактором (он же подрабатывал в издательстве) книги Пастернака «Второе рождение», и я думаю, он не мог не почувствовать, что Пастернак, пытаясь быть советским, на этом теряет, на этом проигрывает. Там были, например, гениальные стихи (во «Втором рождении»): обе «Баллады» (особенно вторая) или, скажем, «Никого не будет в доме», но в основном-то Ахматова правильно сказала: «Жениховская книга», капитулянская во многих отношениях книга. Попытки Пастернаки и Багрицкого представить революцию как месть за поруганную женственность — в «Феврале», в «Весеннею порою льда..», отчасти в «Спекторском» — это попытки объяснимые, попытки найти для революции женское, наиболее привлекательное лицо. Но это попытки обреченные, поэтому, мне кажется, Багрицкий находился на пороге какого-то категорического, какого-то решительного разрыва с действительностью.
У поэта, у прозаика вообще бывает такой период, когда он все время пытается себя ломать под окружающую себя действительность, а потом вдруг берет и говорит те единственные слова, которые надо сказать. Когда против воли, когда надоедает приспосабливаться, когда хочется вырваться и против собственного желания говоришь то, чего боишься. Вот Багрицкий, мне кажется, находился на грани такого разрыва с любым приспособленчеством. Ранний Багрицкий, конечно, тоже очень привлекателен. Он, конечно, один из самых обаятельных поэтов своего времени, и правильно вы делаете сейчас, что его перечитываете. Писал же Марк Щеглов в дневниках: «В сердце своем я оглушаю Пастернака Багрицким». Интересно, что Щеглов, один из самых тонких и проницательных филологов и критиков 50-х годов; как говорил Воздвиженский, «самая светлая личность нашего времени»; Щеглов почувствовал эту глубокую внутреннюю связь Пастернака и Багрицкого, при всем различии их дарований.