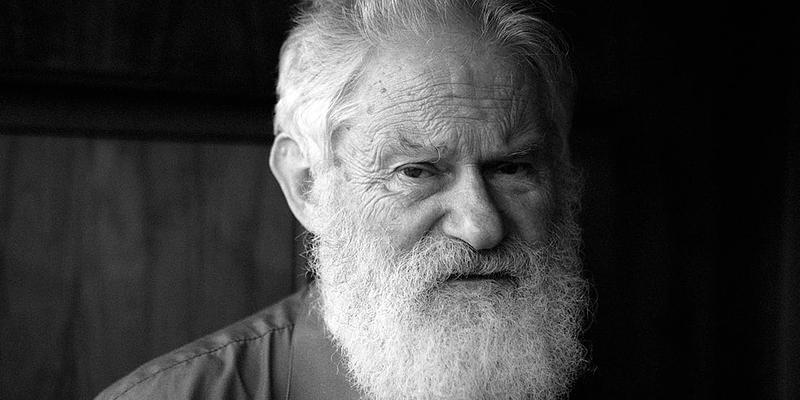Ну насчет «поэтической катастрофы» я бы не сказал. Поэтическая катастрофа — это случай Николая Тихонова, когда он сорок или пятьдесят лет не писал стихи, а в семидесятые годы влюбился в медсестру, которая ходила к нему из Литфонда, и написал цикл стихотворений ужасных (ужасных!) про то, как «вся планета танцует танец живота». Как раз Антокольский, проходя мимо его дома в Переделкино, умиленно писал:
Две книги — «Брага» и «Орда»
Сначала пишутся как будто.
Дело, видите ли, в том, что период старческой влюбленности и старческой плодовитости не всегда означает вторую молодость, иногда он означает первый маразм. Вот если, скажем, Антокольский в своих поздних любовных стихах достигал каких-то невероятных высот:
В этой чертовой каменоломне,
Где не камни дробят, а сердца,
Отчего так легко и светло мне,
И я корчу еще гордеца?
И лижу раскаленные камни
За чужим, за нарядным столом,
И позвякивает позвонками
Камнелом, костолом, сердцелом…
Такие стихи, полные удивительного старческого одиночества, полные старческого безумия, такие стихи:
Вот оно как у вас напоследок идет,
Будто рушится с кручи отвесной.
Но какой же он сам призовой идиот,
Что тебе исповедался честно!
Классные стихи. Но штука в том, что у Антокольского это старческий какой-то взлет, действительно. А у Тихонова была катастрофа. Надо сказать, что поздние стихи Сельвинского, да вообще все, что Сельвинский писал в 30-е, что он писал в 60-е (он до 70-х не дожил). А пьесы его — это кошмар. В «Пушторге» есть элементы полной графомании, что и признавалось большинством его современников. А «Умка — Белый Медведь», или «Командарм-2» — это катастрофа, конечно. Но видите ли, какая вещь… Мне кажется, его погубило тщеславие. Почитайте его письма, где он описывает, как звучит его голос. Он действительно видел себя таким атлетом, героем, а был человеком психически довольно хлипким. Его сломал страх этот, почему он и поучаствовал в травле Пастернака. Он сломался реально. У него довольно страшная судьба. Элементы такой избыточной лихости были уже и в «Уляляевщине», и кокетство, и самолюбование. Уже и «Цыганский вальс на гитаре» — довольно такое произведение… Знаете, цыганщина эта была и у Уткина, этот форс молодой и позерство были в природе тогдашних поэтов.
Мне, кстати, кажется, что в «Цыганском вальсе на гитаре», что в Сельвинском с самого начала был очень силен элемент позерства, что в его стихах очень много было, не скажу, кокетства, но какой-то избыток сил и неумение ими распорядится. Да, точно: «таратина — таратина — tan» — это именно оттуда, из «Цыганского вальса…»: «Нночь-чи? Сон-ы. Прох? Ладыда». Но как ни относись, это все-таки… Когда это молодое буйство — это обаятельно. А когда это игра в маститость такую… Сельвинский очень рано почувствовал себя мэтром. К нему иронически Самойлов и Слуцкий, но не отрицали, что многому у него научились, «Стихам о тигре» они просто поклонялись. Мне кажется, что в нем, как и в Луговском, примерно, при избытке внешней мужественности была внутренняя хлипкость. Просто Луговской оказался честнее, его гибель была откровеннее. Сельвинский доехал до войны, на войне был. Другое дело, что война его тоже надламывала. Луговской до войны не доехал: он был контужен, попал в Ташкент и переживал очень болезненно свое удаление от войны, свое удаление от жизни. То, что он не мог быть даже военным корреспондентом на этой войне; то, что он сидел в тылу, спивался. «Алайский рынок» — потрясающие стихи, этот апофеоз падения:
И если есть на свете справедливость,
То эта справедливость только я.
Кстати, одно из моих сильнейших впечатлений от театра, от актерства — это Михаил Ефремов, читающий эту поэму. Он знает, что такое падение, и он уж это так прочел, что в ЦДЛовском зале волосы дыбом вставали. Это был настоящий Миша, в полный рост. Мне кажется, что и катастрофа Луговского, и катастрофа Сельвинского в том, что настоящее мужество было не у конструктивистов, оно было не у советского мачизма,— оно было у Даниила Андреева; у тех людей, которых не видели, которых не знали. Оно было в другом, оно было не на поверхности. Поэтому катастрофа этих людей в том, что они так довольно легко надламывались.