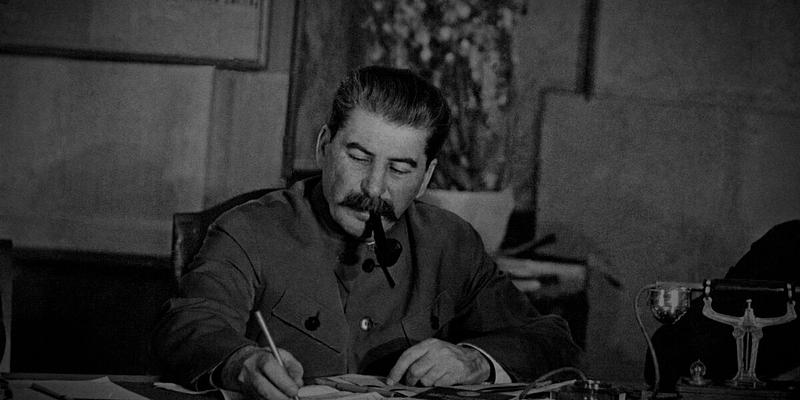Ей давно не спалось в дому деревянном.
Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
Напевала романс о мгновении чудном
Голоском еле слышным, дыханием трудным.
Да по правде сказать, о мгновении чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Доживала, как нищенка, на медные деньги.
Да и, господи Боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в мерцании снега
Приезжала к нему — вся томленье и нега.
Как в объятиях жарких, в дыхании ночи
Он ее заклинал, целовал ей очи,
Как заснул на груди и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна.
А потом пришел ее час последний.
И всесветная слава и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
«Во блаженном успении вечный покой ей!»
Что в сравнении с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала бездыханна,
Раскрасавица Керн, боярыня Анна.
Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десяток — не боле,
Не сановный люд, не знатные гости,
Поспешали зарыть ее на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как назло.
Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
Только страшно вырос — прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен.
Поглядите, правнуки — точно такой он!
Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печалясь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновении чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано, а встретились поздно.
Я понимаю, что это не Бог весть какие стихи. Я, кстати, немножко их сократил, потому что там у него есть лишние 8 строчек — ну, не то что лишние, а просто я чувствую, что без них лучше.
Антокольский, на мой взгляд, был поэт с задатками гения. И не зря Марина Ивановна Цветаева, которая воспитывала его на своем чердаке в Борисоглебском, видела в нем эти задатки. Но потом так случилось, что она увлекалась Юрой Завадским, и ей стало не до Павлика.
А «Повесть о Сонечке» — она мне потому так и нравится. Я ведь Антокольского узнал до этой вещи и полюбил его. И потом нюх меня вывел на «Повесть о Сонечке», в которой про Павлика А. Ведь на самом деле я полюбил Антокольского за «Вийона» и за стихи 30-х годов. Он один из немногих поэтов, у кого в 30-х годах были божественные озарения. Он поэт огромного темперамента, французского такого, почему он лучше всего и переводил Гюго. Он любит такие эффектные строчки.
Вот то, что я прочел «Балладу о чудном мгновении» — она же основана на апокрифе. Керн — во-первых, неизвестно, ей ли посвящено стихотворение о чудном мгновении. Пушкин ей его отдал случайно и хотел отнять. Он действительно был вечной темой ее старческих разговоров. Ее последний муж, который был младше ее, кажется, на 20 лет, стоически это терпел.
Анна Петровна была очаровательная женщина, но при всём при этом отношение Пушкина к ней было таким, я бы сказал, ироническим, иногда надменным. Иногда боготворил, а иногда издевался. И при этом, собственно, его памятник никогда не встречался с ее прахом. Это, собственно, апокриф. Там везли постамент навстречу ее похоронной процессии, но сам памятник там не появлялся. Но история красивая.
И Антокольский здесь как раз обыгрывает контраст в нескольких планах. Во-первых, контраст — действительно «смертный прах старухи с бессмертной бронзой». Во-вторых, контраст между образом Керн, каким он возникает в письмах Пушкина и в ее собственных мемуарах, и в стихах «Я помню чудное мгновенье». В-третьих, конечно, контраст пушкинских ямбов и того вольного, но несколько старческого, несколько хромающего, я бы сказал, скрипучего дольника, которым написано это пронзительное стихотворение.
Я думаю, что Антокольского сейчас знают поразительно мало. Я думаю, единственный человек, который его помнит живым, и который упрочивает по мере сил память о нем — это младший из его учеников Игорь Волгин, который был, собственно, его питомцем. Антокольский его первым заметил, очень прозорливо. Я думаю, его привлекала та достоевщина, которая была в Волгине с самого начала. Достоевщина, разумеется, в хорошем смысле, а не в подпольном.
Конечно, Антокольский был мастером, мэтром для целой поэтической плеяды. Самой удачливой в этой поэтической плеяде была Белла Ахмадулина, которую он называл «птенчик орла». Павел Григорьевич был человек темпераментный, иногда смешноватый — нарочно, намеренно. Но не будем называть и того, что именно он был вдохновителем песни Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона».
Потом Окуджава говорил, что эта песня к «Вийону» не имеет никакого отношения. На самом деле имеет самое прямое, потому что мелодия ее — сначала это была мелодия песенки, подаренной Окуджавой на один из дней рождения Антокольского. Кажется, это было в 1962 году. Он ему подарил стихотворение «Здравствуйте, Павел Григорьевич». Помните, там:
Пушкин долги подсчитывает,
И от вечной петли спасен,
В море вглядывается с мачты
Вор Франсуа Вийон.
Он ему спел на день рождения эту песенку, а потом сделал из нее «Молитву Франсуа Вийона», конечно, в огромной степени навеянную поэмой Антокольского, потому что образ Вийона там закрепился, каким мы его знаем, и, конечно, «Балладой истин наизнанку», и «Балладой поэтического состязания в Блуа» («Я над ручьем от жажды умираю»). Это, как бы сказать, такая антиномическая поэзия, которая вдохновляла и Антокольского, и Эренбурга, и Окуджаву.
Влияние Антокольского было в двух вещах. Во-первых, вся эта ожившая у него и получившая свежее дыхание, свежие краски французская тема, пиратская романтика, веселая Франция, бродяжничество — всё, что Окуджаве в его песнях было очень близко. Вот это всё
Не бродяги, не пропойцы
За столом семи морей.
Вы пропойте, вы пропойте
Славу женщине моей!
— это всё идет от школы веселого романтизма Антокольского.
Ну и во-вторых, конечно, это глубочайшая внутренняя антиномичность, амбивалентность, которая есть в Окуджаве, которая была и в Антокольском. В чем она была именно в Антокольском? С одной стороны, восторженный, счастливый, темпераментный, всегда влюбленный, всегда немножко фатоватый, безумно многословный. С другой стороны, склонный к депрессиям — долгим, тяжелым. Такой биполярный. Особенно склонный, конечно, к сомнениям в себе, к жестокой рефлексии. И любовь к театру, и ненависть к театру. И любовь к актрисе, к его музе Зое Бажановой, которую он пережил надолго, и мука от сожительства с актрисой, в которой он никогда не знает, чему верить.
У него были стихи поразительной, трагической силы. Я говорю не только о поэме «Сын», которая очень сильная, но, безусловно, это не единственное его выдающееся произведение. Ну, вспомните:
Как жил?— Я не жил. Что узнал?— Забыл.
Я только помню, как тебя любил.
Так взвейся вихрем это восклицанье!
Разлейся в марте, талая вода,
Рассмейся, жизнь, над словом «никогда»!
Всё остальное остается в тайне.
Циркачка в черно-золотом трико,
Лети сквозь мир так дико, так легко,
Так высоко, с таким бесстрашьем дерзким,
Так издевательски не по-людски,
Что самообладанием тоски
Тебе делиться в самом деле не с кем!
Вот самообладанием… Хотя и самолюбование тоски бывает, но самообладание тоски — это то, что было ему присуще в высочайшей степени. Или, например, помните:
В этой чертовой каменоломне,
Где не камни дробят, а сердца,
Отчего так легко и светло мне
И я корчу еще гордеца?
И лижу раскаленные камни
За чужим, за нарядным столом,
И позванивает позвонками
Камнелом, костолом, сердцелом.
Это же поздние стихи. Это ему уже за 70. Это его последняя старческая любовь, мучительная. И как он хорошо это написал! Он удивительным образом не старел. Его старческие стихи совершенно гениальные. И особенно нравится мне в нем, конечно…
Ну, его всегда хвалили за культурность, за начитанность, даже за избыток этой несколько балаганной вторичности. Но мне нравится его любовь к театру и цирку. К бродячим циркачам. Вот его великолепная драматическая поэма «Робеспьер и Горгона», где французская революция увидена глазами бродячего циркача, глазами горбуна, шута из циркового фургона. Вот эта романтика французских дорог, эта романтика баллад — она мне невероятно близка. Близка, понимаете, какой-то близостью осенних московских пейзажей.
Тот район, где я тогда жил — это был тогда край Москвы. И вот этот осенний лес, который виден был из окон дома, мне так было понятно всё, что он писал об этих осенних вийоновских странствиях, об этом свищущем ветре. Помните,
Всю Францию, весь мир пройди,
Во все глаза гляди —
Одна погоня позади.
Да гибель впереди.
На свете много разных чувств.
Их сила мне чужда.
И я с тобою распрощусь,
Как мне велит нужда.
Без оправданий, без нытья,
Без всякой доброты.
Спи крепко, молодость моя!
Я всё сказал. А ты?
Нет, конечно, гениальный поэт. И главное — вот эта внутренняя антиномичность. Это то, чего сегодняшним одноплановым людям остро не хватает.