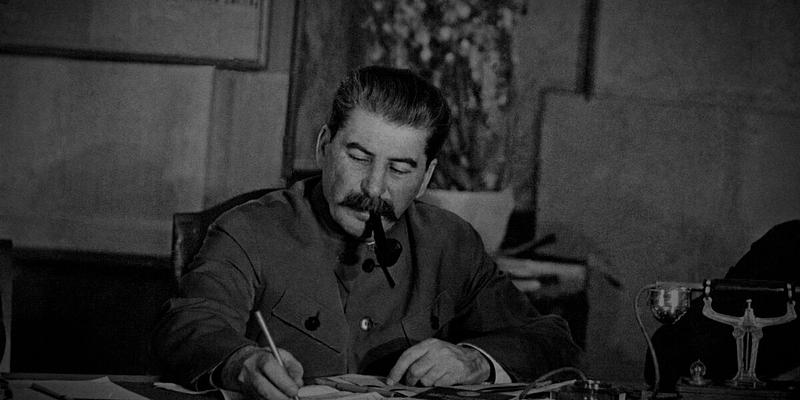Почему вообще вампирская тема стала в мире одной из доминирующих? Сама история с Арнаутом, а до этого еще история с Петаром Благоевичем – это 1725-1726 год. С Пабли Арнаутом (или Арнольдом) история вообще задокументированная, потому что при вскрытии гроба присутствовали люди, официальные лица. И с Благоевичем тоже страшная история, физиологически страшная, когда вампир не просто лежал со свежим цветом лица, а у него эрекция была; некоторые говорят, что этот процесс декомпозиции, растления и тления так шел, но трудно себе представить.
Эти истории прогремели в 1725-1726 годах. Актуальность им придал Байрон, который обладал невероятным чутьем на современность. У него вампирская тема появилась в «Гяуре», а впоследствии Полидори, его личный врач, присутствовал при его вечере страшных рассказов, когда Мэри Шелли придумала Франкенштейна, а Байрон рассказал новеллу «Погребение». Там сюжет был в том, что через Ла-Манш или где-то там он плывет. Внезапно соседу становится плохо, он весь чернеет, а потом после смерти становится вампиром. И герой встречает его один раз в обществе, хотя на его глазах тот чернел, разлагался и был похоронен.
Тут две вещи, которые вампиризму придали одну жизнь. Первое (это не мое мнение, а мнение одной моей студентки, крайне умной), что посмертное бытование – это во многом воскрешение архаики, воскрешение архаических, казалось бы, теорий и вещей, реакция на просвещение. Просвещение скомпрометировало себя во время Великой французской революции, и архаика, черные легенды, готика, суеверия и ритуалы, – все это полезло из всех щелей в начале 19-го столетия. Вампир – это вставший из гроба мертвец. Вставший из гроба мертвец сегодня гложет Россию.
У меня когда-то в «Собеседнике» была такая статья «Вот вам пир», это статья про фильм Говорухина «Великая криминальная революция». О том, что как бы ни ужасна была Россия современная, Говорухин пытается найти идеал в прошлом, этот идеал не находится. Нельзя противопоставлять современности – хорошей или плохой – прошлое. Потому что прошлое – это всегда вампир, оно всегда может жить только за счет свежей крови. Ну и второе объяснение любви к вампиризму и модности этой темы выдвинул Сергей Лукьяненко, который сказал, что вампир – это идеальный консьюмер, идеальный потребитель. Он никогда не стареет, во-первых; во-вторых, он очень гламурен; в-третьих, он, как правило, ничего не производит и только питается рентой. Отсюда, в общем, один шаг до того обобщения, которое я уже делаю в книжке «Страшное: поэтика триллера»: о том, что поэтика вампиризма – это поэтика буржуазии. В отличие от аристократии, она традиций не имеет. Она живет за счет ренты, за счет великого прошлого. Но сама она ни к какому производству не способен. Вампир – наиболее буржуазная личность.
Мне тоже одна девчонка замечательная сказала: «Я в принципе не романтик, но в вампира я бы влюбилась». Почему? Потому что вампир обладает самой притягательной особенностью мужчины – он принадлежит к тайному обществу, к тесному тайному кругу. Вот эту принадлежность, немножко масонскую, эксплуатировали Стругацкие в гениальном сценарии «Пять ложечек эликсира». Это история им так нравилась, она не давала им покоя. И когда они для Тарковского писали «Ведьму», частично использованную в «Жертвоприношении», это была история тайного общества, тайного братства людей, принадлежавших к очень древнему магическому ордену и обретающих бессмертие за счет ложечек эликсира. Кстати, кто поставил бы сегодня этот сценарий, тот бы стяжал все лавры. Дело в том, что этот эликсир бессмертия (как чапековское средство Макропулоса) выдается не по заслугам. Человек обретает бессмертие не потому, что он достоин или не потому, что он нужен. А потому что он имеет доступ к некоторому веществу, вот и все. Вампиры бессмертны, вампир – часть тайного общества, а это (наряду с огромной физической силой, с огромной физической привлекательностью, как в «Сумерках») притягательно. Вампир прекрасен не тем, что он гламурен, а тем, что он глубоко законспирирован, имеет доступ к тайне.
Потом вот этот «Blood» семисезонный, насколько я помню, сериал, что там такое эта «кровь»? Я совершенно не разделяю точки зрения, но это символ как раз творческой энергии, не просто творческой, а глубинной энергии варварства и дикости. «Кровь, – не случайно говорит Воланд, – значит очень многое». Она все определяет. Так вот, эта кровавая идея, идея, что тело прочно, когда под ним струится кровь, идея жестокости, идея, в общем, садическая до известной степени, идея о том, что творчество возможно только на жестокости и на зверском инстинкте, – это идея в мире довольно распространенная. О том, что вампир, по крайней мере, не скрывает кровавой физиологической природы и творчества, и потребительства, и мира в целом.
Я думаю, что вампирическая идея в сегодняшнем искусстве набрала еще такой огромный размах, такую огромную популярность еще и потому, что темой вампиризма, начиная с Полидори, занимались довольно сильные художники. Самый интересный в этом ряду – это, конечно, Мериме. Потому что он своей «Гузлой», своим сборником якобы карпатских, балканских народных песен сумел ввести в заблуждение даже Пушкина, обладавшего потрясающим чутьем на аутентичность. И, кстати говоря, Мериме не так уж и приврал, потому что вампирская тема на пересечениях, на торговых и культурных путях Европы всегда громко звучит. Мериме не придумал вампиров, Мериме не придумал эту мифологию. Он с этой мифологией вовремя попал в нерв.
А почему Пушкин за это ухватился? Почему он написал свои «Песни западных славян». Это потому, что для него и в теме упыря, и в теме посмертного существования очень многое в этот момент близко. Ведь обратите внимание? О чем в основном пишет поздний Пушкин? О том, что будет после смерти. «Памятник» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»), весь Каменностровский цикл («Решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы»), и «Вурдалак» Пушкина больше всего интересовать вещи на грани небытия, его больше всего интересует то, что будет после смерти. И в этот момент он пишет, наверное, лучшее свое произведение, которое мне всегда хочется просто процитировать вслух, именно потому что это самая красивая баллада из «Песен западных славян» – «Похоронная песня Иакинфа Маглановича».
С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.
Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил.
Враг твой мчался без оглядки;
Но твой сын его убил.
Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдетесь как-нибудь;
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!
Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила;
Я здоров, — и сына Яна
Мне хозяйка родила.
Деду в честь он назвав Яном;
Умный мальчик у меня;
Уж владеет атаганом
И стреляет из ружья.
Дочь моя живет в Лизгоре;
С мужем ей не скучно там.
Тварк ушел давно уж в море;
Жив иль нет, — узнаешь сам.
С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.
Этой фразой когда-то Твардовский закончил последнюю главу «Теркина», вплел ее в последнюю главу «Теркина», после чего «Теркин на том свете» стал лучшим и главным его произведением. Кстати говоря, и загробный монолог «Я убит подо Ржевом» – тоже лучшее стихотворение Твардовского. Его бы сократить вдвое-втрое – цены бы ему не было.
Вампирская тема – тема посмертного бытия, которая сегодня для всего мира является ключевой. Верно говорили и Рыбаков, и Лукьяненко: мы живем в постмире; мире, где мы питаемся капиталом прошлого, где мы нового ничего пока не производим, но мы живем на руинах великой культуры. Отчасти именно вампиризмом советского прошлого, подсасыванием у него занимается сегодня не только российская, а вся культура. Потому что советские озарения 70-х были вообще лучшим из того, что тогда в мире появлялось. И в Америке, кстати говоря, мы наблюдаем тот же постмир, ту же оглядку на то, что было. Я думаю, что вампиризм – главная тема эпох (промежуточных, нет спора), которые живут прошлым. Не надо думать, что это окончательно. Может быть, вампиризм – то освоение от нашего безоглядного и огромного наследия, которым мы сегодня заняты. Именно поэтому все чаще мне вспоминается Некрасова:
Я люблю живых писателей,
Но — мне мертвые милей!
Это — пир гробовскрывателей!
Дальше, дальше поскорей!..
А чтобы появилось это новое, чтобы оно расцвело, нам, видимо, надо будет долго и внимательно разбираться с сегодняшним происходящим. Поэтому в некотором смысле вампирами являемся и мы с вами. Приятно только то, что энергию мы подсасываем в том числе друг у друга.