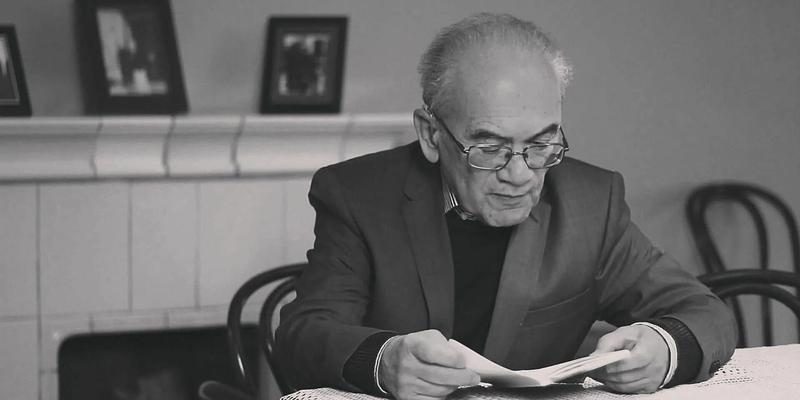Мне хотелось бы разрушить, как разрушен уже давно миф о Чехове как и «кротком певце сумерек», миф о Кушнере как о ровном поэте, поэте нормативном. Вот Бродский сказал о нём, на мой взгляд, совсем некомплиментарно, что поэзия Кушнера будет жить, вообще пока существует нормативная русская поэзия, то есть как бы нормальная, с температурой 36,6. Нет, это не так. Кушнер — поэт трагический, поэт, я думаю, того же класса и во многом того же направления, что и Чухонцев, поэт довольно резко меняющийся. Во всяком случае то, что обеспечило Кушнеру славу и до сих пор больше всего нравится его настоящим поклонникам,— это, условно говоря, Кушнер до «Канвы», до 1981 года. Это Кушнер тех ранних ещё стихов, в которых именно трагизм повседневности выходил на первое место:
А в-третьих, в-третьих —
Смерть друзей,
Обычный ужас жизни всей,
Любовь и слёзы без ответа,
Ожесточение души,
Безмолвный крик в ночной тиши
И «скорой помощи» карета.
Но мне кажется, что настоящий Кушнер — это, например, вот такие стихи… Это длинное стихотворение, но очень хорошее.
В Италию я не поехал так же,
Как за два года до того меня
Во Францию, подумав, не пустили,
Поскольку провокации возможны,
И в Англию поехали другие
Писатели. Италия, прощай!
Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу,
Завёрнутая в летнюю жару,
С клочком земли, засаженным цветами,
И полуразвалившимся жильём,
Каналами изрезанная сплошь.
Ты снилась мне, Венеция, по Манну,
С мертвеющим на пляже Ашенбахом
И смертью, образ мальчика принявшей,
С каналами? С каналами, мой друг.
Подмочены мои анкеты; где-то
Не то сказал; мои знакомства что-то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому-то; трудная работа
У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадёт.
Достану с полки блоковские письма:
Флоренция, Милан, девятый год.
Италия ему внушила чувства,
Которые не вытащишь на свет:
Прогнило всё. Он любит лишь искусство,
Детей и смерть. России ж вовсе нет
И не было. И вообще Россия
Лирическая лишь величина.
Товарищ Блок, писать такие письма,
В такое время, маме, накануне
Таких событий… Вам и невдомёк,
В какой стране прекрасной вы живете!
Каких ещё нам надо объяснений
Неотразимых, в случае отказа:
Из-за таких, как вы, теперь на Запад
Я не пускал бы сам таких, как мы.
Италия, прощай!
В воображенье
Ты ещё лучше: многое теряет
Предмет любви в глазах от приближенья
К нему; пусть он, как облако, пленяет
На горизонте; близость ненадёжна
И разрушает образ, и убого
Осуществленье. То, что невозможно,
Внушает страсть. Италия, прости!
Я не увижу знаменитой башни,
Что, в сущности, такая же потеря,
Как не увидеть знаменитой Федры.
А в Магадан не хочешь? Не хочу.
Я в Вырицу поеду, там, в тенёчке,
Такой сквозняк, и перелески щедры
На лютики, подснежники, листочки,
Которыми я рану залечу.
А те, кто был в Италии, кого
Туда пустили, смотрят виновато,
Стыдясь сказать с решительностью Фета:
«Италия, ты сердцу солгала».
Иль говорят застенчиво, какие
На перекрёстках топчутся красотки.
Иль вспоминают стены Колизея
И Перуджино… эти хуже всех.
Есть и такие: охают полгода
Или вздыхают — толку не добиться.
Спрошу: «Ну что Италия?» — «Как сон».
А снам чужим завидовать нельзя.
Понимаете, вот это точнейшее стихотворение, точнейшее и по мысли, и по самоощущению, с блистательным совершенно чередованием рифмованных и белых стихов — вот это настоящий Кушнер: умный, горько-иронический, насмешливый, страдающий, понимающий, что собственные его страдания всегда не самые сильные, кому-то хуже. Тогда же он написал:
Больной неизлечимо
Завидует тому,
Кого провозят мимо
В районную тюрьму.
А он глядит: больница.
Ему бы в тот покой
С таблетками, и шприцем,
И старшею сестрой.
Но надо вам сказать, что, помимо этого ума, холодного и довольно резкого, Кушнер ещё и тёплый, мелодичный, музыкальный поэт вот этой лёгкой, летучей прелести жизни. Он когда-то прекрасно сказал: «Что смотреть на косточку? Кости у всех персиков одинаковые. Персик ценен мякотью, плотью». И вот эта плоть жизни у него опоэтизирована. Это необязательно культура, необязательно римские статуи, необязательно «Как клён и рябина растут у порога, // Росли у порога Растрелли и Росси». Нет. Он поэт не только культуроцентричный, и этим выгодно отличается от многих своих учеников и от питерских поэтов вообще. Он поэт вот этой живой плоти. И он понимает, насколько эта живая плоть обаятельна.
Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервозной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его нервном трёхдольнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счёт от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти неврозы
Объясняются болью за всех,
Переломной эпохой и бытом.
Эту нервность, лирический пыл,
Так не свойственны сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Из двух зол это зло выбирая,
Если помните… ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и чёрный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
— Ты припомнил бы мне ещё тапки.
— Ведь девятое только число,—
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это гулкое лето,
Это шорох ночных тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.
Или: «Какими средствами простыми ты надрываешь сердце мне?»
Вот эта простая и неразрешимая коллизия семейного отчаяния, непризнания, умения увидеть трагедию и одновременно прелесть вот этой несвершившейся жизни — это очень характерно для шестидесятых, для семидесятых годов. Не только пресловутое внимание к мелочам: кувшину, стакану (за что его столько били), к скатерти, к сахарнице. Совсем не это. Кушнер ценен именно своим умилённо-раздражённым, язвительно-нежным отношением к жизни. Вот это сочетание нежности и язвительности в нём было всегда. И любовь у него такая же — «разночинная пылкая ссора». Я думаю, никто, как Кушнер, не писал о любви с этой интонацией умилённого раздражения.
Мне звонят, говорят: — Как живёте?
— Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дел не думаю. Жду: позвонят.
И ему отвечает:
— И на нас,— отвечает,— находит.
То ли жизнь в самом деле проходит,
То ли что… Я б зашла… да потом
Будет хуже.— Спасибо на том.
Вот прелесть несовершившегося, которое могло бы быть, которое было бы прекрасно и от которого оба в испуге отвернулись — это тоже Кушнер.
Понимаете, самую точную характеристику Кушнера дала его ровесница и однокашница Слепакова, знакомая с ним с трёхлетнего возраста. Вот эта история, самая точная характеристика:
В ноябре, в ночном тумане,
В смутный год после войны
Над скалистыми домами
Петроградской стороны
Мчалась тень полуодета,
Намерзал на крыльях лёд —
Мировой души поэта
Совершался перелёт.
И в одно окно живое,
Заглянув из темноты,
Тень кивнула головою,
Указала: Это ты!
Ты — возросший меж поленниц
В том колодезе сыром,
Что как верный уроженец
Ты зовёшь своим двором.
Ты — по ордеру ботинки
Получивший день назад,
В телевизор керосинки
Уставляющий свой взгляд.
Ты — сквозь давку, норовящий
Локотками да бочком,
Мир запасливо ловящий
Бессознательным зрачком.
Ты — о мальчик ущемлённый!—
Вечно млеющий и злой,
Вечно тлеющий, бессонный,
Угль, подёрнутый золой.
Какой точный портрет! Это стихотворение ему посвящено, он это знал. Мальчик ущемлённый, млеющий, злой, тлеющий, бессонный… Какие великолепные эпитеты! И он действительно такой. Не надо видеть в Кушнере доброго. Это человек с недоброй, богатой, глубокой наблюдательностью и самонаблюдением таким же. Он много чего про себя знает, поэтому он так вынослив, поэтому он ко многому готов, как и его лирические герои. Это человек высокой культуры, помещённый в буднично-низкий мир и снабжённый не самой романтической судьбой. Его нелюбовь к романтизму, которую внушила ему отчасти и Лидия Гинзбург, его учитель литературный и собеседник любимый,— это общеизвестная вещь. И действительно…
Эти яростные страсти
И взволнованные жесты —
Нечто вроде белой пасты,
Выжимаемой из жести.
Да, это действительно так. Кушнер — поэт подчёркнуто стоический.
Туда, где ценятся слова,
Где не кружится голова.
И это, точно, наше место.
Действительно он как-то помещён Богом в подчёркнуто неромантические обстоятельства. Но об этом у него есть замечательные стихи (я думаю, с чертами гения) «Аполлон в снегу»:
Это — мужество, это — метель,
Это — песня, одетая в дрожь.
Потому что здесь в снегу, в России, последний форпост влияния Аполлона — и в этом есть гордость определённая. Я не могу сказать, что Кушнеру, который так любит юг, кедры, море, так уж нравится снежная эта страна — в смысле именно пейзажей, в смысле условий жизни. Но тем не менее:
Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!
Но и другую представить нельзя
Шубу, полегче.
Он прекрасно понимает, что это огромное снежное пространство подзвучивает звук как ничто.
У позднего Кушнера были блистательные имперские стихи, которыми я и закончу:
Вид в Тиволи на римскую Кампанью
Был так широк и залит синевой,
Взывал к такому зренью и вниманью,
Каких не знал я прежде за собой,
Как будто к небу я пришёл с повинной:
Зачем был так рассеян и уныл?—
И на секунду если не орлиный,
То римский взгляд на мир я уловил.
Кушнер — поэт римского взгляда на мир, поэт стоицизма, поэт величия поневоле и, конечно, поэт жизненной прелести.