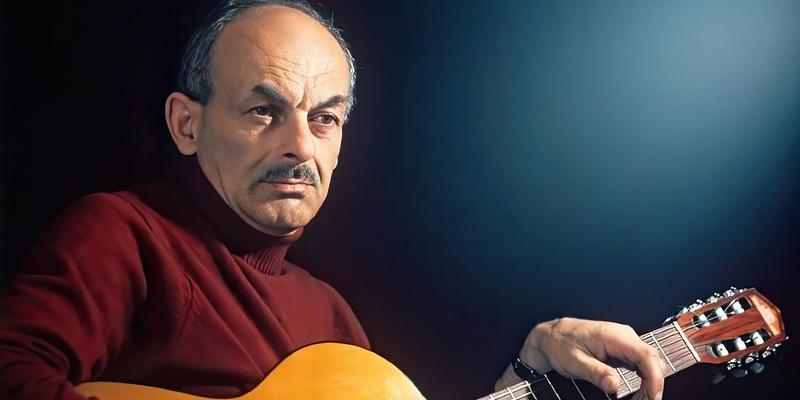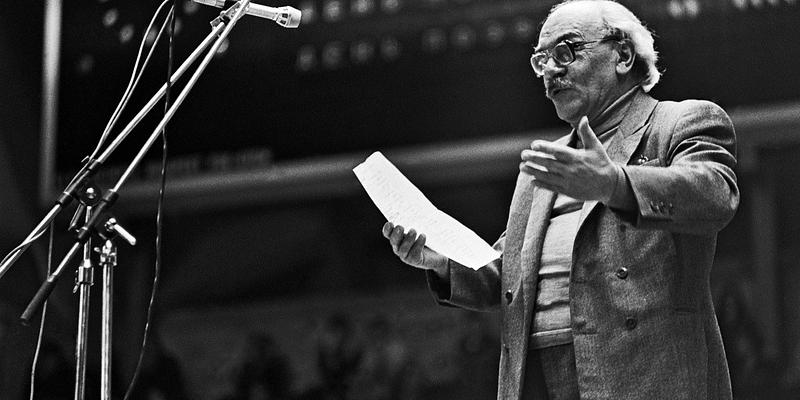Прежде чем что-то говорить и читать, я бы остановился на одной важной его особенности. Самойлов – неосуществившийся прозаик. Он всегда об этом сожалел горько. Он задумывал большой роман о судьбе своего поколения. Видимо, он почувствовал, что этот роман ему просто никто не даст написать. А может быть, проблема была в том, что он сам осознавал всю нехватку метафизической высоты для написания такого романа. Но это проскочило, проскользнуло в стихах.
Душа поэзии Самойлова, конечно, эпическая. Он эпический поэт, балладник, сюжетник, и его поэмы «Струфиан» и «Снегопад» дали русской прозе совершенно новую интонацию. А «Цыгановы» – это тоже эскиз к большому роману о народной судьбе.
Самойлов прекрасно чувствовал эту народную душу – прежде всего то, как надо писать после «Теркина». Давайте вспомним «Ивана и холопа» – сравнительно раннее стихотворение, 1947 год:
Ходит Иван по ночному покою,
Бороду гладит узкой рукою.
То ль ему совесть спать не дает,
То ль его черная дума томит.
Слышно – в посаде кочет поет,
Ветер, как в бубен, в стекла гремит.
Дерзкие очи в Ивана вперя,
Ванька-холоп глядит на царя.(то, что они оба Иваны – это еще и привет бабелевскому рассказу “Иваны”).
– Помни, холоп непокорный и вор,
Что с государем ведешь разговор!
Думаешь, сладко ходить мне в царях,
Если повсюду враги да беда:
Турок и швед сторожат на морях,
С суши – ногаи, да лях, да орда.
Мыслят сгубить православных христьян,
Русскую землю загнали бы в гроб!
Сладко ли мне? – вопрошает Иван.
– Горько тебе, – отвечает холоп.
– А опереться могу на кого?
Лисы – бояре, да волки – князья.
С младости друга имел одного.
Где он, тот друг, и иные друзья? (это абсолютно точное указание на Курбского, который для поэтов этой поры был ключевым образом, и потом, у Чухонцева, в «Повествовании о Курбском, вышел на поверхность)
Сын был наследник мне Господом дан.
Ведаешь, раб, отчего он усоп?
Весело мне? – вопрошает Иван.
– Тяжко тебе, – отвечает холоп.
Кстати говоря, вся риторика Ивана в этом стихотворении, в этой балладе – это отсылка к переписке с Курбским. Потому что если у Курбского это письмо в жанре проповоди, то у Ивана письмо в жанре исповеди. Он все рассказывает бывшему другу о том, как он страдает. Конечно, это исповедь фальшивая и много там риторических ходов, но он все время говорит, как ему трудно. «Да, я все время убиваю, а мне что, сладко, что ли? Да мне надо! А ты, если ты виноват, мог бы и пострадать. Был бы теперь в раю». Как видим, риторика «мы будем в раю» неизменна.
– Думаешь, царь-де наш гневен и слеп,
Он-де не ведает нашей нужды.
Знаю, что потом посолен твой хлеб,
Знаю, что терпишь от зла и вражды.
Пытан в застенке, клещами ты рван,
Царским клеймом опечатан твой лоб.
Худо тебе? – вопрошает Иван.
– Худо, – ему отвечает холоп.
– Ты ли меня не ругал, не честил,
Врал за вином про лихие дела!
Я бы тебя, неразумный, простил,
Если б повадка другим не была!
Косточки хрустнут на дыбе, смутьян!
Криком Малюту не вгонишь в озноб!
Страшно тебе? – вопрошает Иван.
– Страшно! – ему отвечает холоп.
– Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь – что корабль. Перед ней – океан.
Кормчий – гляди, чтоб корабль не потоп!..
Правду ль реку? – вопрошает Иван.
– Бог разберет, – отвечает холоп.
И надо сказать, что бог-то разобрал.
«Ах, нельзя убивать маленьких, убивать нельзя!» – это следующее стихотворение в цикле, написанное, правда, 10 лет спустя. Я не буду вдаваться в анализ историософии Самойловым, хотя в этой историософии было и презрение к реформаторам, выведенное в «Струфиане», потому что эти реформы всегда выдержаны половинчатыми. Я не буду вдаваться в его отношение к Солженицыну и диссидентам. Ни те, ни другие ему не нравились. Наверное, ему можно предъявить упрек в имперскости, который ничего не значит. И здесь, конечно, дело не только в стихотворении «Я вел расстреливать бандитку» – стихотворения апологетического, на самом деле. Это соответствовало империи по масштабу. Самойлов выбрал для себя вариант существования на окраине. «Я сделал свой выбор, я выбрал залив, я сделал свой выбор и вызов».
Но никаких иллюзий насчет этой империи у Самойлова не было. «Добро на Руси ничего не имети». Скорее, он эту империю рассматривал как оптимальную среду для поэзии. И его выбор заключается в том, чтобы найти себе в этой империи точку неуязвимости и использовать ее для своих стихов, для испытывания сложных эмоций, которые она дает. Вероятно, это выбор верный. При том, что вместе с империей Самойлов и умер.
Стихи, которые люблю больше всего. «Прощание юнака» – я думаю, что это стихотворение сопоставимо с пушкинской «Похоронной песней Иакинфа Маглановича». Во всяком случае, оно не слабее.
Ты скажи, в стране какой,
в дальнем городе каком
мне куют за упокой
сталь-винтовку со штыком?
Грянет выстрел. Упаду,
пулей быстрою убит.
Каркнет ворон на дубу
и в глаза мне поглядит.
В этот час у нас в дому
мать уронит свой кувшин
и промолвит: – Ах, мой сын! –
И промолвит: – Ах, мой сын!..
Если в город Банья Лука
ты приедешь как-нибудь,
остановишься у бука
сапоги переобуть,
ты пройди сперва базаром,
выпей доброго вина,
а потом в домишке старом
мать увидишь у окна.
Ты взгляни ей в очи прямо,
так, как ворон мне глядит.
Пусть не знает моя мама,
что я пулею убит.
Ты скажи, что бабу-ведьму
мне случилось полюбить.
Ты скажи, что баба-ведьма
мать заставила забыть.
Мать уронит свой кувшин,
мать уронит свой кувшин.
И промолвит: – Ах, мой сын! –
И промолвит: – Ах, мой сын!..
Здесь виден, конечно, лермонтовский образец. Это стихотворение 1943 года, которое он завершил 30 лет спустя. Там понятно, что он имеет в виду «пускай она поплачет… ей ничего не значит!» Но здесь мать догадалась, потому что мать не обманешь. Вот эту мысль он проводит.
Наверное, ужасно нравится мне вот это… Я думаю, что сейчас Самойлов там и пребывает:
Как в поход собирался Вук,
говорил ему старый друг,
старый друг воевода Милош:
— Чем могу помочь тебе, Вук,
если руки не держат лук
и копье мое преломилось?
Я гляжу как сквозь тусклый лед
и не бью уже птицу влет,
не валю на скаку зверя.
Зажирел мой конь от овса.
И ни в сына, и ни в отца,
и ни в чох, ни в сон я не верю.
И ответствовал Вук: — Ну что ж!
Если ты для битвы негож
и не веришь в святого духа, я и сам воевать могу.
— Чем же я тебе помогу? —
Снова Милош спросил у Вука.
— А помочь мне? Можешь помочь.
У меня остается дочь
и младенец о третьем годе.
Если долго я не приду,
посылай моим чадам еду, —
отвечает Вук воеводе.
— Да и матушку не забудь.
Навести ее как-нибудь,
соболезнуй ее заботе.
А когда истекут ее дни,
по обряду похорони. —
отвечает Вук воеводе.
— И еще мне в чем помоги:
если злую молву враги
обо мне распустят в народе,
ты не верь той молве ни в чем,
как не веришь ни в чох, ни в сон, —
отвечает Вук воеводе.
И садится Вук на коня
и в поход отъезжает шагом.
Это гениальный открытый финал. Я думаю, что ничего лучшего, ничего более глубокого не написано о старости и о дружбе. Но здесь есть, мне кажется, и более важная мысль: не надо опровергать клевету, если она будет. Главное – самому в нее не верить.
Я напоминаю, что у Окуджавы был любимый тост: «Давайте выпьем за то, чтобы каждый из нас, услышав друг о друге самое худшее, не поверил хотя бы в первые три минуты». Потом, понимаете, у Самойлова есть какая-то веселая, очень русская легкость отношения к жизни и смерти, которую ни с чем не сравнить. И вот эту простоту я люблю:
Полночь под Иван-Купала.
Фронта дальние костры.
Очень рано рассветало.
В хате жили две сестры.
Младшая была красотка,
С ней бы было веселей,
Старшая глядела кротко,
Оттого была милей.
Диким клевером и мятой
Пахнул сонный сеновал.
На траве, еще не мятой,
Я ее поцеловал.
И потом глядел счастливый,
Как светлели небеса,
Рядом с этой, некрасивой, —
Только губы и глаза.
Только слово: «До свиданья!» —
С легкой грустью произнес.
И короткое рыданье
С легкой грустью перенес.
И пошел, куда не зная,
С автоматом у плеча,
«Белоруссия родная…»
Громким голосом крича.
Или это, мы еще успеваем прочесть:
Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле,
Припадая к ветру молодому
Головой, закинутой от боли.
Подойдет на стон к нему сестрица,
Поднесет родимому напиться.
Даст водицы, а ему не пьется,
А вода из фляжки мимо льется.
Он глядит, не говорит ни слова,
В рот ему весенний лезет стебель,
А вокруг него ни стен, ни крова,
Только облака гуляют в небе.
И родные про него не знают,
Что он в чистом поле умирает,
Что смертельна рана пулевая.
…Долго ходит почта полевая.
Вот я думаю, что Самойлов, который в некотором роде умер в поле, умер сразу после выступления на вечере Пастернака, – Самойлову сейчас хорошо. Он один из тех русских поэтов, которые это заслужили