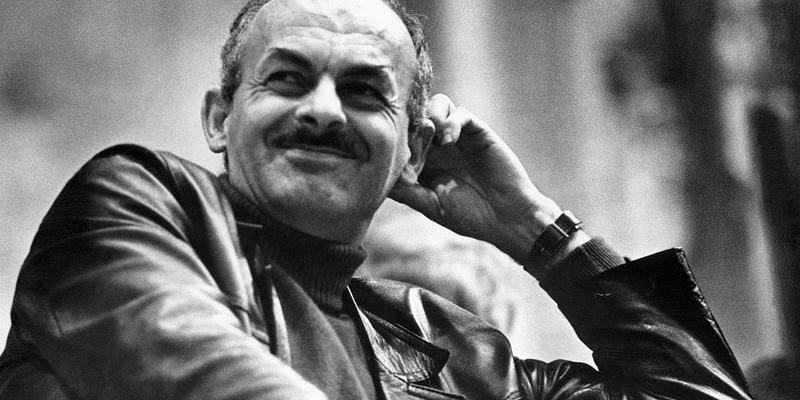В общем, Самойлов, Левитанский и Окуджава – это три абсолютно разных поэта и поэта абсолютно разного масштаба. Если говорить о китах оттепели, то киты оттепели общеизвестны. Это Евтушенко, Вознесенский и Ахмадулина. Хотя некоторые назвали бы, естественно, и Мориц, и Матвееву, и Рождественского, да там было из кого выбирать. Но просто эти трое – наиболее типичные, наиболее типажные. И эти три типажа появляются в первом манифесте оттепели – фильме «Девять дней одного года». Там Вознесенский, условно говоря, совпадает с типажом Смоктуновского, Евтушенко – с типажом Баталова, а Ахмадулина – с типажом Лавровой. Это роковая женщина в ситуации не просто выбора мужчины, а просто в ситуации экзистенциального бытия, в ситуации неприятия всех этих политических или околополитических отвлечений. Об этом можно было бы поговорить подробно.
Меня как раз в Тбилиси недавно много расспрашивали о том, какие условия нужны для того, чтобы состоялось литературное движение. Условно говоря, поэтический клуб. Нужны три условия: роковая женщина; кабак, вокруг которого все это формируется (в случае Петербурга это «Бродячая собака»), ну и определенный культ слова и культ литературы, который существовал и в Париже конца 19-го столетия и в Тифлисе 20-х годов, и в России 10-х. Это те условия, из которых вырастает литературное управление.
Роковая женщина в случае Яшвили особенно наглядна: ей приписывали стихи, а никто не знал, пишет ли она на самом деле. Роковая женщина – это женщина, которая летит поверх голов, а в решающие моменты говорит: «Все это скоро исчезнет». То есть она играет ту роль, которую в сценарном сообществе играла Рязанцева: она понимает все глубже всех. Шпаликов обольщается, выдумывает оттепель, Тарковский играет в рокового гения, который выше всего этого и может себе позволить некий цинизм. А Рязанцева во всех своих сценариях и своем жизненном поведении всегда смотрит в пустоту и говорит: «Все это не имеет значения. Все это скоро кончится». И никто не знает, кого она любит на самом деле, хотя кого-то она любит обязательно. Только она страдает от этого втайне.
Что касается соотношения Левитанского, Окуджавы и Самойлова, то Окуджава и Самойлов находятся на разных полюсах, несмотря на то, что у них были товарищеские (именно товарищеские, а не дружеские) отношения. Во-первых, Самойлов старше на 4 года. Во-вторых, он человек совершенно другого опыта. ИФЛИйская Москва – это не арбатская, не дворовая Москва. Я не говорю, что круг Самойлова был элитарным. Окуджава к началу войны был юношей, мало что понимающим. Самойлов к этому времени много передумал и многое написал со своих 18-ти.
Естественно, что Самойлов глубоко прав, называя Окуджаву сентименталистом и не всегда романтиком. Наверное, это больше похоже на истину. Что касается Левитанского, я думаю, что Левитанский был наименее мыслитель, а наиболее такая птица певчая. О масштабах я сейчас говорить не буду и не буду по масштабам сравнивать их, но, конечно, ключевая фигура, несмотря на свое абсолютное одиночество (правда, он был довольно счастлив в учениках, но по-человечески был одинок абсолютно), – это Слуцкий, конечно.
Он для идеологии оттепели, для модуса вивенди оттепели, конечно, сделал даже больше других. Даже для модуса операнди, скорее. То, как Слуцкий себя вел; как это описано в его стихотворении – «дело не сделается само, дайте мне подписать письмо», – вот эти три этапа вплоть до полного отвращения к любой социальности, – это он выразил ярче других. Дихотомия «Самойлов-Окуджава» и «Самойлов-Слуцкий» интересна.
Понимаете, для того, чтобы быть одним из китов оттепели (я сейчас призадумался об этом глубоко), мало принадлежать к поколению, мало иметь военный опыт, мало уметь поставить новую проблематику и зафиксировать новые отношения к ним. Нет, для того, чтобы быть одним из китов оттепели, нужно выражать ее доминирующее настроение – эту смесь счастья и тревоги, какая есть в фильмах и сценариях Шпаликова, какая есть в его стихах. И Рязанцева, конечно, была права, когда говорила, что оттепель придумал Гена. Оттепель придумал Шпаликов. Тут, понимаете, ощущение счастья, которое есть в некоторых стихах Окуджавы и в его песнях ранних есть, и при этом чувство постоянной, подспудной тревоги. Вот если можно это выразить лаконичнее всего (с помощью военной метафоры, потому что все метафоры этого поколения военные): это как если бы тебя призвали на заведомо проигранную войну.
Именно поэтому в Польше, где пафос победы отсутствует, а по сути, там есть пафос пережитого морального поражения, – именно поэтому в Польше так любили Окуджаву и культуру русской оттепели тоже. Именно поэтому так полон тревоги фильм «Застава Ильича», в отличие от той идеи, которая первоначально вдохновляла Хуциева. Я думаю, что у Окуджавы (не скажу позднего, но зрелого) это чувство счастья очень притупилось. А у Евтушенко оно было. Такое неприкрытое счастье от собственного бытия, что ты жив, что тебя пускают за границу, что тебя любят лучшие женщины. То, что выдавалось за «ячество», за эксцентризм, было на самом деле чувством горького счастья. Это счастье как бы компенсировало трагедию государства на протяжении всего 20-го века. И у Ахмадулиной было это робкое ощущение счастья и общности:
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.