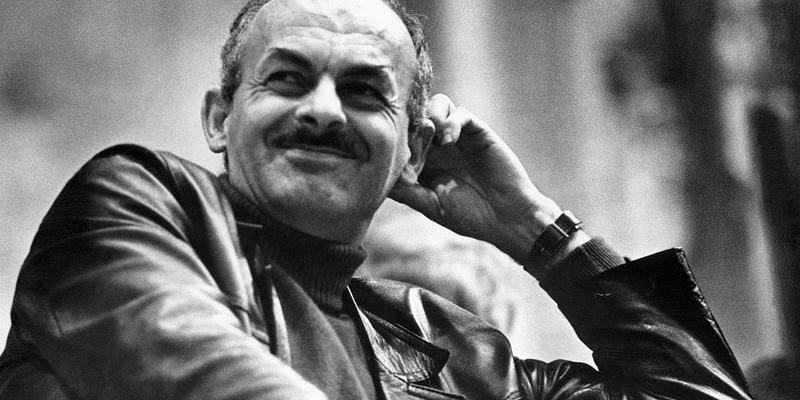Окуджава взял у фольклора, вероятно, главное. Фольклор – это те песни, которые отличаются универсальностью, универсализмом. Их может спеть каждый, и каждый их примеряет на себя. Отсюда огромное внутреннее пространство его текстов, куда каждый может поместить себя. Как он делает это? Песня Окуджавы – это действительно рамочная конструкция. Сам он с чрезвычайной точностью свой способ обозначил. Это лишний раз показывает, как у него хорошо был отрефлексирован процесс: Иван Иваныч делал рамочки, но портреты людей, помещавшихся в эти рамочки, сами себе начинали казаться благороднее, умнее и лучше.
Вот Окуджава создает те конструкции, в которые каждый может вчитать свою судьбу. Самый известный пример. Мы как раз с моим любимом славистом Тимоти Сергием, переводчиком Чудакова на английский, одним из выдающихся знатоков современного литпроцесса эту песню обсуждали.
А как первая любовь – она сердце жжет,
А как вторая любовь – она к первой льнет,
А как третья любовь – ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.
А как первый обман – да на заре туман.
А второй обман – закачался пьян.
А как третий обман – он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней.
А как первая война – да ничья вина.
А вторая война – чья-нибудь вина.
А как третья война – лишь моя вина,
а моя вина – она всем видна.
Я переставил второй и третий блоки, потому что на некоторых записях Окуджава поет именно в таком порядке, и мне так больше нравится. Может быть, потому что война – это более глобальная вещь, чем обман. Здесь поразительное сочетание самых обобщенных и самых точно точечных, лично узнаваемых моментов биографии. «А как третья любовь – ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке» – это человек уходит от прежней жизни и от прежней жены. Он уходит, захватив только чемодан. Непонятно, как его там встретят: «Ключ дрожит в замке, чемодан в руке».
Ну и насчет войны: первая война всегда чья-то. И вторая всегда чья-нибудь. А третья война – самая страшная, самая личная – происходит на внутреннем фронте. И это твоя вина. И это не ты воюешь с внешней силой, а ты воюешь с самим собой.
Ну и обман. Первый обман – это еще ошибки молодости. Второй – «зашатался пьян» – возможно, какие-то кризисы среднего возраста. А вот третий обман – это когда вдруг понимаешь, что вся жизнь твоя была самообманом. Самый страшный третий обман – «он ночи черней, он войны страшней». Это предательство себя. Иными словами, Окуджава говорит (и это главный сюжет его лирики, могу я наконец сформулировать) о перенесении общественных катаклизмов на личный уровень, о переживании общественного как личной трагедии. Собственно говоря, и об Ахматовой многие говорили (и Недоброво, и Мандельштам), что Ахматова – это проживание социальной драмы, общественной драмы на уровне личном, и доращивание личной драмы до масштабов общественной трагедии. Собственно, вся «Поэма без героя» – это расплата мира за грехи частных людей. Люди нагрешили, а расплатой им за это является и катастрофа 1913 года, и катастрофа 1940 года. Это поэма предвоенного года о другом предвоенном годе.
И, конечно, невозможно эту песню Окуджавы прочесть без учета того, что вечно полная катаклизмов жизнь советского человека часто не давала ему повода задуматься о личной его ответственности. И только в старости его настигало это сознание собственной любви, собственной войны и собственного обмана. Это я так помещаю собственную жизнь в эту предельно рамочную конструкцию. Думаю, предельно точное слово среди потока слов мерцающих и размытых – это отчасти и творческий метод Бориса Гребенщикова. У него тоже такие точные уколы и попадания на фоне абсолютно размытых… как укол звезды в сумеречном небе.
Слово Окуджавы, как говорил тот же Богомолов, мерцает, Окуджава размывает слово. Об этом говорил и Давид Самойлов: «Слово Окуджавы не точно, точно его состояние». Это он угадывает.
Например, «Часики» – там самое интересное в соотношении куплета и рефрена.
Купил часы на браслетке я.
Ты прощай, моя зарплата последняя.
Вижу слезы жены — нету в том моей вины:
это в дверь постучались костяшки войны.
А часики тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.
Вот закончилось, значит, сражение.
Вот лежу я в траве без движения.
Голова моя в огне, и браслетка при мне,
а часы как чужие стучат в стороне…
Все тикают, тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.
Какова вообще функция рефрена в песне? Он – напоминание о времени, о ходе времени. Это дельта, напоминание о том, что меняется. Куплет меняется, а рефрен остается неизменным. На фоне этой неизменности особенно ярко выступают изменения в куплете.
Значит, что переменилось? «Тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчат они» в первом куплете и первом рефрене было обещанием мирной жизни. А сейчас – «тихую жизнь мне пророчат они» – это обещание смерти, вечного покоя. Но самое главное, что «Часики» – это история об отношениях человека и времени. «Купил часы на браслетке я», не предполагая, что война начнется. Это как бы союз со временем. А потом – «а часы как чужие стучат в стороне». Смерть – это выпадение из времени. Это то, что ты больше с ним не совпадаешь. Оно скинуло тебя, как конь. Время ушло, ушло в другую сторону.
Это одно из возможных прочтений этой песни. Большинство песен Окуджавы имеют невероятно глубокое и очень неоднозначное внутреннее содержание. Та же «Песня о голубом шарике» содержит невероятное количество смыслов. Ее всю расшифровывать – это с ума сойдешь. Кстати говоря, «Товарищ Надежда по фамилии Чернова», такая маршеобразная, всегда была для меня таким блестящим примером именно фольклорной всевместимости.
Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, все начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет вас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Я спросил Окуджаву при первой встрече, при первом разговоре… Он пригласил к себе куртуазных маньеристов, и мы довольно откровенно побеседовали. Я спросил, кто такая Надежда Чернова? Я думал, это какая-нибудь героиня войны или, не дай бог, какой-нибудь партийный функционер. Он ответил очень неожиданно: это просто русская безнадега, черная надежда. Я потом уже узнал, что Надежда Чернова – это фамилия кавалерист-девицы Дуровой в браке. И уж конечно, Окуджава это знал. Он об этом не сказал.
Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать –
не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать
и узнали, что к чему и что почем, и очень точно.
И дальше идет тот куплет, который он обычно не пел, последний:
Глаза ее суровы, их приговор таков:
чтоб на заре без паники, чтоб вещи были собраны,
чтоб каждому мужчине – по паре пиджаков,
и чтобы ноги – в сапогах, а сапоги – под седлами.
Ведь о чем речь? О том, что вся русская жизнь – это жизнь в ожидании мобилизации. Все время «у порога, как тревога, ждет вас новое житье». И самое страшное здесь, что мы не понимаем, куда призывают. Может быть, призывают на войну. Может быть, на целину надо ехать. А может быть, это вообще какое-то глобальное выселение. Знаете, целыми нациями же переселяли тогда. Это известие катастрофы, которая врывается в жизнь, но эта катастрофа в известном смысле стала буднями.
Для меня, во всяком случае, это песня именно о том, что главным фоном, главной составляющей, нервом русской жизни является постоянная готовность к мобилизации, все просят куда-то ехать.
Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,
нас ждет веселый поезд, и два венка терновых,
и два звонка медовых, и грустный машинист,
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Вот этот «грустный машинист» определенным образом перекликается с грустным летчиком из песни про истребителя:
Грустный летчик как курортник…
Его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.
Все время подчеркивается, что он грустный. Грустный летчик, грустный машинист, грустный двигатель русской судьбы. Песня «Надежда Чернова», как мне представляется… Кстати говоря, Окуджава ее очень любил, но пел не очень часто: видимо, потому что видел в ней некоторую глубинную крамольность. Вот это ощущение, что сейчас придут, сорвут с места, надо хватать пару пиджаков и влезать в сапоги, вечный бой, который не прекращается, эта блоковская тема – «и вечный бой, покой нам только снится»:
И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю…
Сколько ж можно побеждать?
Но это претензия Окуджавы не столько к русской жизни, это его ощущение мира как войны. Отсюда – синтез пацифистских и милитаристских установок. Потому что хочет или не хочет он, ты всегда воюешь. Фронт никуда не девается. Может быть, маленькая повесть Окуджавы «Фронт приходит к нам», которую он подал в «Тарусские страницы» вместо «Школяра», чтобы в последний момент оставить «Школяра», повесть о двух мальчишках, – эта повесть обычно недооцениваемая, мало кому известная. Но я думаю, что это главная констатация в жизни Окуджавы. Главное в жизни – это «фронт приходит к нам». Хочешь ты того или нет, а война всегда к тебе стучится. И ты не можешь отступить, тебе некуда отступать. Каждое поколение найдет свою войну.
Если брать стихи Окуджавы, то, наверное, самое мое любимое – это «Из окна вагона». Окуджава – довольно утонченный поэт. Я помню, как Дидуров нам в «Ровесниках», в детской редакции объяснял. Он был у нас в гостях и говорил, что простота Окуджавы обманчива. Он виртуозно играет со звуком:
На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.
Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.
Кстати говоря, Окуджава очень любил поиграть со стихами, где все слова на одну букву. Забыл, как это называется, там «Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск…». Он действительно очень виртуозный автор, и стихи его сложны, когда он давал себе труд написать серьезное стихотворение. Но обычно стихи Окуджавы – это такой ганч, это такая попытка залепить пустоту в античной скульптуре. Когда ему не писались песни, которые он считал главным своим призванием, или когда не писалась проза (которая тоже во многом у него построена по законам песни), он писал стихи просто для того, чтобы заговорить молчание, заговорить литературное удушье. Поэтому в стихах этих обычно или много банальностей, или самоповторов. Или замечательные формулы, но именно формулы.
Когда он писал лирику, лирику именно высокого песенного накала, то получилось, например, такое. «Из окна вагона»:
Низкорослый лесок по пути в Бузулук,
весь похожий на пыльную армию леших –
пеших, песни лихие допевших,
сбивших ноги, продрогших, по суткам не евших
и застывших, как будто в преддверье разлук.
Их седой командир, весь в коросте и рвани,
пишет письма домой на глухом барабане,
позабыв все слова, он марает листы.
Истрепались знамена, карманы пусты,
ординарец безумен, денщик безобразен…
Как пейзаж поражения однообразен!
Или это мелькнул за окном балаган,
где бушует уездных страстей ураган,
где играют безвестные комедианты,
за гроши продавая судьбу и таланты,
сами судьи и сами себе музыканты…
Их седой режиссер, обалдевший от брани,
пишет пьеску на порванном вдрызг барабане,
позабыв все слова, он марает листы,
декорации смяты, карманы пусты,
Гамлет глух, и Ромео давно безобразен…
Как сюжет нашей памяти однообразен!
Гениальные стихи совершенно. И потом, понимаете… Кстати говоря, самое страшное в том, что это правда. Память подсказывает все время именно такие сюжеты.
Мне в свое время школьники сказали: «Львович, вы бы, чем комментировать Блока, лучше его бы еще почитали». И когда я матери об этом с горькой обидой сказал, она ответила: «Ну ничего, Блоку проиграть не зазорно». Читать Окуджаву – большее удовольствие, чем говорить об Окуджаве. Просто потому что он написал лучше, чем я могу сказать.
Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.
Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету, невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.
И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он все ждет своих врагов.
Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинутся, трубя…
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.
Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук,
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.
Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.
И вот, знаете, под занавес… Мне кажется, это идеальное стихотворение разговора отца с сыном:
Мой сын, твой отец – лежебока и плут
из самых на этом веку.
Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
я в этом поклясться могу.
Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.
Когда погорельцы брели на восток,
и участь была их горька,
он в теплом окопе пристроиться смог
на сытную должность стрелка.
Не словом трибуна, не тяжкой киркой
на благо родимой страны –
он все норовит заработать строкой
тебе и себе на штаны.
И все же, и все же, не будь с ним суров
(не знаю и сам, почему),
поздравь его с тем, что он жив и здоров,
хоть нет оправданья ему.
Он, может, и рад бы достойней прожить
(далече его занесло),
но можно рубашку и паспорт сменить,
но поздно менять ремесло.