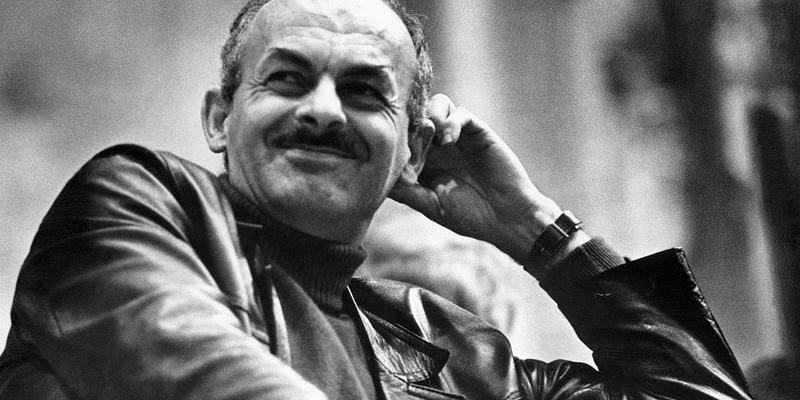есть три вещи. Во-первых, внутренне богатство, разнообразие, сложность мира. Во-вторых, конечно, для меня очень важным критерием остается внутренняя близость, механизм душевных реакций, их скорость, тип. Третья вещь, которая меня всегда привлекает необычайно… Это то, что Жолковский назвал «синтезом пацифистских и милитаристских установок». Вот, эту формула, лучше которой про Окуджаву ничего не сказано. То есть чтобы человек не был уверен в своем правильном существовании, во многом сомневался, чтобы он был трагической личностью во многом. И при этом – чтобы он умел свое отстаивать до конца, как Шварц, который казался и робким, и каким-то чересчур интеллигентным. И эти вечно дрожащие руки – видимо, следствие контузии. Но для меня при этом он символ абсолютной несгибаемости. Когда он с пронзительным голосом закричал на писательском собрании: «Я не могу осудить моего друга, я никогда не буду осуждать моего друга. Вы ждете, чтобы я его предал? Я никогда не смогу этого сделать».
Шварц в одном из своих дневников составил свое самое точное автоописание. Он описал мальчика, который пришел в дом к соседям. Он нес маленький букетик незабудок. На него залаяла собака, и он в эту собаку кинул букетик незабудок. Это единственное, что он мог сделать. Вот Шварц – это мальчик, который кидает в страшное зло, агрессивное, букетик незабудок. И иногда побеждает причудливым образом.
Я думаю, что Шварц… Я не могу сказать, что он для меня абсолютный идеал писателя. Но идеал человека – наверное, да. Шварц не может сделать ничего плохого. И, конечно, он гений, он гениальный драматург. Ведь вы посмотрите, сколько было playwright’ов замечательных в советской России. А вышел один Шварц. Сценаристы – многие, а вот из драматургов, театральных писателей – только он.