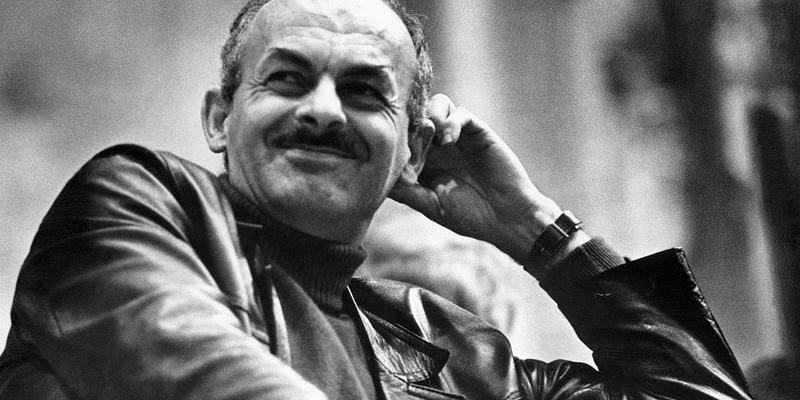Да нет, не старше. Просто, понимаете, сам Самойлов сказал: «Мы романтики, а Окуджава сентименталист». Сентименталист по сравнению с романтиком всегда выглядит младше. Он какой-то такой детский, инфантильный. Вот почитайте Стерна — это ребячливая проза, детская. Она всё время ребячится. Почитайте Карамзина — это тоже такое литературное детство. Тогда как романтики — это люди действия. И даже романтический подросток выглядит старше сентиментального ребенка.
Окуджава и плотно примыкающий к нему Юрий Давидович Левитанский — оба они довольно наивны на фоне военных поэтов. Вот видите, Слуцкий и Самойлов оба (ну и Коган, не доживший до победы) гордились военным опытом. Для них это была существенная составляющая их жизни. А для Окуджавы это то, что он пытается забыть. У Левитанского прямо сказано: «Ну что с того, что я там был? Я это всё почти забыл, я это всё хочу забыть». И у Окуджавы в стихотворении:
Высокий хор поет с улыбкой,
Земля от выстрелов дрожит,
Сержант Петров, поджав коленки,
Как новорожденный лежит.
Это попытка забыть военный опыт, избыть, избавиться. Внушить себе, что я там не был. А для Самойлова, для Слуцкого это какая-то основа жизненного опыта. Больше того, в известных обстоятельствах Самойлов мог себе позволить сказать «И всё живу. И всё же существую. А хорошо бы снова на войну». Чтобы Окуджава такое сказал — да никогда в жизни! По формуле Жолковского, его синтез военных и даже, я бы сказал, гвардейских и пацифистских установок совершенно исключает всякое возвращение к этому опыту.
Понимаете, вот Солженицын говорит, что лагерный опыт был для него благотворен, а то бы вырос советским человеком. А Шаламов говорит, что лагерный опыт весь от начала до конца мучителен, вредоносен и тлетворен. Такая же история с Окуджавой и Слуцким. Они дружили. Они вместе вели семинары. Ну как дружили? Они, по-моему, были всё-таки на «вы», но при этом вместе довольно часто появлялись и доброжелательно реагировали друг на друга.
Единственное, что когда Окуджава в 1985 приехал в Тулу (там, кстати, некоторые песни он спел единственный раз в кругу поклонников — например, «Слава и честь самовару», или «Поздравьте меня, дорогая») — вот там он хотел приехать к Слуцкому, который жил там у младшего брата. И Слуцкий ему запретил. Он сказал: «Не хочу, чтобы вы меня видели в таком позорном состоянии». И последний раз они поговорили по телефону, но не увиделись.
Но при этом Слуцкий и был старше. Дело не в том, что он был старше на 5 лет (1919 год). Он был старше по мироощущению. Просто потому, что романтик, человек действия, человек героический. «Это студент Слуцкий? Нет, это майор Слуцкий». Он действительно такой человек субординации. А Окуджава, всё время подчеркивающий субтильность этого солдатика, тонкие ножки, эту вызывающую романтическую внебытность… Женя Колышкин. Сравните Женю Колышкина из «Жени, Женечки и Катюши» с лирическим героем Слуцкого («Я говорил от имени России»). Совершенно другая история.
Да и Самойлов тоже. Понимаете, в Самойлове была какая-то такая мудрость веков, всегда. Может быть, детская, иногда взрослая. Близость Самойлова к фольклору подчеркивает эту его взрослость. У Окуджавы фольклорность совсем другой природы. Неслучайно Окуджава так стилизуется под фольклор русский с его бесфабульностью, а Самойлов — под фольклор сербский, баллады. И баллады его, в отличие от песен Окуджавы, всегда очень конкретны, очень структурны. У Окуджавы одна баллада и, по-моему, неудачная — это «Он наконец явился в дом». И то она слишком расплывчата для баллады.
Я, кстати, помню, что мы с Николаем Алексеевичем Богомоловым на презентации его книги об авторской песни это обсуждали. Ему там задали вопрос, есть ли у Окуджавы хоть одна неудача в песнях. Он долго думал и сказал: «Всё-таки найти не могу». Мне кажется, что неудачная песня «Он наконец явился в дом». Не его жанр. Потому что баллада у него может быть либо пародийной (как «В поход на чужую страну собирался король»), либо тоже такой аморфной и недоговоренной, как «Девочка по имени Отрада». А вот когда он начинает рассказывать историю, это не его природа. Потому что Самойлов тяготел именно к сюжету, а Окуджава даже и в романах своих, кстати говоря, такой прямой фабульной напряженности избегает. Это тоже не скажу, что инфантилизм. Может быть, это ангельское в нем. Он был слишком ангел, а Слуцкий и Самойлов слишком люди.
Даже больше вам скажу: со Слуцким и Самойловым было интересно поговорить, судя по воспоминаниям. И Петр Захарович Горелик мне много рассказывал — я хорошо его знал, а он близко знал обоих. Их разговоры были просто энциклопедией, фейерверком. А вот с Окуджавой (я с ним сам говорил) было трудно говорить. Как с Блоком. Было понятно, что он всё знает, но всё, что можно, он сказал.
Это, знаете, примерно та же история, как уже упоминавшееся сравнение Дяченок и Стругацких. Когда я говорил с Борисом Натановичем, с ним легко было говорить о сущностных вещах — он умел и любил называть вещи своими именами. С Мариной и Сережей мы болтаем о чем угодно, кроме главного. Но это главное идет какой-то подводной нитью, подводным течением, которое я не всегда могу понять, но всегда чувствую. И фантастика у них такая же.
Вот я думаю, что афористичность и структурность Слуцкого до известной степени его губила. Он не мог преодолеть вот этого скелета, и он сломался. В нем не было гибкости, он был очень ригиден. И это его сломало. Окуджава — наоборот. Он весь такой ветер, такая гибкость, волна.