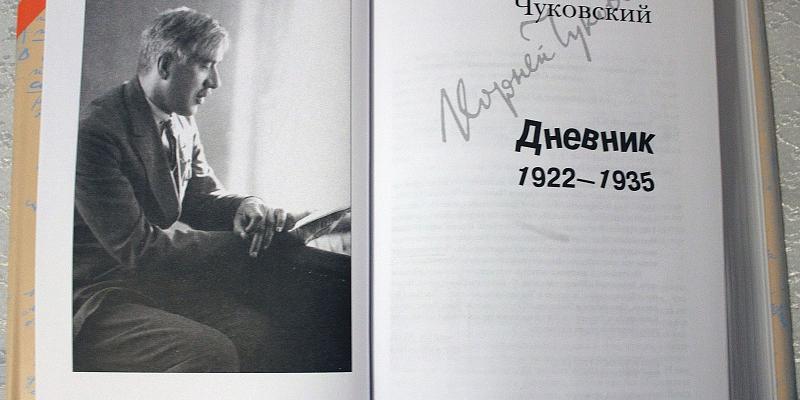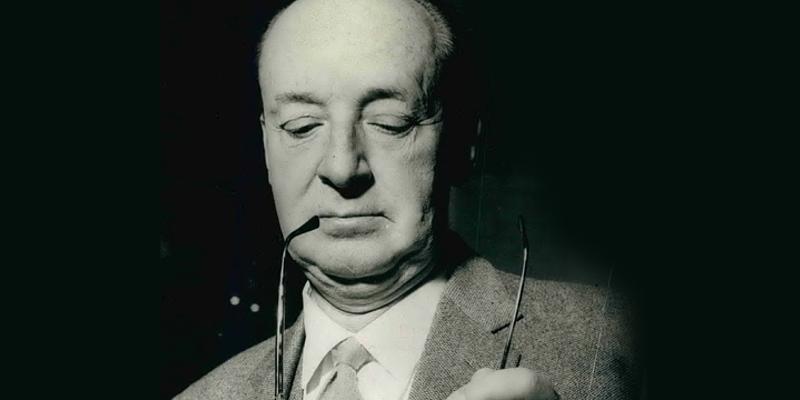Этот роман Набокова менее известен не потому, что он слабее, как думают некоторые, а потому что он сложнее многих его книг. Известно, что набоковское творчество — такая симметриада, бабочка. И «Ада» симметрична «Дару», а «Лолита» — «Смеху в темноте», или «Камере обскура», а «Приглашению на казнь» симметричен вот такой его антитоталитарный вариант американский. Мне кажется, что глубина набоковского прозрения там вот в чем. Всегда считалось — по крайней мере, в начале века, когда Честертон активно продвигал эту идею,— что фашизм и терроризм придет благодаря интеллектуалам с их моральным релятивизмом, а на пути у фашизма встанет обыватель, которого не удастся фашизировать.
Вот как раз Набоков в этом романе со всей убедительностью доказал, что обыватель, господин Заурядов,— это и есть питательная среда фашизма. Что интеллектуал, такой, как Круг, никогда не натворит такого зла, как обыватель, который вместе с женой смакует что-нибудь «увкуснюсенькое». То, что человек массы, уверенный в своей абсолютной универсальности, в своем торжестве, в своем большинстве, уверенный в своем численном преимуществе, становится источником фашизма,— это довольно принципиальная догадка. Правда, это догадка уже по следам сбывшегося, но о причинах фашизма Европа думала тогда. Фашизм привели не интеллектуалы. Интеллектуал по самой своей природе все-таки одиночка и изгой.
Конечно, великая ошибка Честертона была в том, что он направил на интеллектуала весь свой гнев обличения, а обывателя, толпу провозгласил оплотом здравого смысла. Вот у Набокова давно уже, ещё в «Облако, озеро, башня» эта ненависть к обывателю отчетливо существует. «Вместе с солнцем, вместе с ветром, вместе с добрыми людьми». Простые добрые люди! Он в Германии на это насмотрелся. Это же и брат Магды и его товарищи из «Камеры обскуры», это самодовольность ограниченности. Вот через ограниченность и приходит фашизм.
Потом, кроме того, очень важные наблюдения над инвариантами Набокова можно сделать, именно читая «Под знаком незаконнорожденных». Там Мариэтта, агентесса тайной полиции, с которой Круг тщится прелюбодействовать после смерти жены, правда уже, с которой он хочет утешить свое мужское одиночество. Она, конечно, родная сестра Магды и отчасти Лолиты, и это лишний раз подтверждает темную связь в набоковском сознании темы педофилии и темы тюрьмы. Ведь она такая девочка-ребенок, она как Эммочка, которая якобы выводит Цинцинната из тюрьмы, на самом деле приводит его в ещё более глубокую тюрьму — в кабинет начальника тюрьмы. Та же самая история с «Лолитой», когда Набоков вспоминает, что «первый трепет — намерение», первое, так сказать, «thrill of conception», трепет замысла пробежал по его спине, когда он увидел заметку, выдуманную им — как считают набоковеды,— про обезьяну, нарисовавшую первый в истории зоологии рисунок. Она нарисовала прутья своей клетки. Тема тюрьмы, действительно, в «Лолите» доминирует. Гумберт думал выбраться из тюрьмы своего желания греховного, а зашел в нем ещё глубже.
Тема инцеста, педофилии как адского греха возникает впервые в стихотворении Набокова «Лилит», и они постоянно у него связанные: тема педофилии и тема тюрьмы. Думая, что уступить соблазну — значит вырваться из тюрьмы, герой ухудшает свое положение. В этом, кстати, важная метафора русской революции, которая есть и в «Лолите». Потому что думая, что этой революцией они освободятся, люди загнали себя в тюрьму более страшную, в зависимость гораздо более неразрешимую. И «Лолита», конечно, по сюжетному ряду вписывается в тот самый ненавидимый Набоковым ряд «Тихого Дона» и «Доктора Живаго», которых он первым соположил в послесловии к «Лолите», поставив их рядом. Каково было бы его разочарование, если бы он понял, что написал то же самое, только не по художественному качеству — о качестве можно спорить — а по фабуле.
И вот эта связь тюрьмы и инцеста, а если точнее, тюрьмы и педофилии, она особенно обнажена в «Bend Sinister», потому что, когда Круг пытается усадить её на колени и с ней все это проделать, в дверь начинают ломиться представители ГБ. ГБ — это там «гимназические бригады», в замечательном этом тексте. Мне вообще кажется, что «Bend Sinister» по исполнению — одна из самых сильных и исповедальных набоковских книг. Там отразился его главный страх — страх за сына. И, конечно, попытка Круга в финале сбежать через безумие,— это все равно бегство в смерть. Не нужно думать, что Набоков рассматривает это как частичную компенсацию его гибели в реальном мире, что можно всегда сбежать в безумие, в несуществование, вырваться из-под диктата автора. На самом деле, авторская ли диктатура, диктатура ли Падука все равно не представляет Кругу выхода. А вот идея разорвать круг, идея смерти как разрыва круга — пардон за каламбур,— это интересная мысль, что единственное бегство возможно в смерть. Что после всего, что произошло в 40-е годы, единственная свобода — это свобода исчезновения.
Я думаю, две книги отрефлексировали опыт Набокова относительно Второй мировой. Это размышление Пнина о мире Белочкиной, и «Bend Sinister». Его вера в человека, если она была,— она подорвана навеки. Это книги отчаяния. И «Good night for mothing», последняя фраза «Bend Sinister» — «Добрая ночь для мотылькования, для собирания мотыльков», Ильин перевел «Добрая ночь, чтобы бражничать», собирать бражников,— на самом деле, это травестированное слегка «Good night for nothing». «Хорошая ночь для ничего», для перехода в ничто. И это уже есть, после смерти Ольги в романе, в самом его начале, понятно, что герой ступил на гибельный путь. Но то, что единственным спасением после всего, что произошло, становится гибель,— это совершенно очевидно. Тоже здесь появляется тема мертвого ребенка. У Круга гибнет сын. Потом что родившееся общество мертворожденное, неспособное, потому что этому обществу проклято будущее.
В этой связи интересно оценить один элемент современного искусства — пропавший ребенок. Ребенок, который потерян начиная с «Юрьева дня» Серебренникова и Арабова и заканчивая «Нелюбовью» Звягинцева и «Садовым кольцом», одновременно созданными, где ребенок исчезает. Будущее исчезло. Мы не знаем, может, оно хорошее. Может, ему хорошо сейчас. Но оно пропало из поля нашего зрения. Вот то, что дети пропали из поля нашего восприятия — это довольно печально. А я, как мне кажется, в силу некоторых биографических особенностей, имею касательство к тем сферам, где они пребывают. Но возьмут ли они меня в свое будущее — я не знаю. Я знаю, что в этом будущем нас не будет.