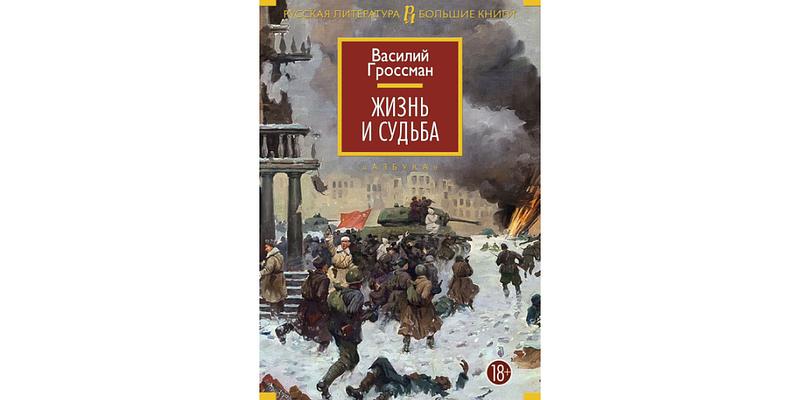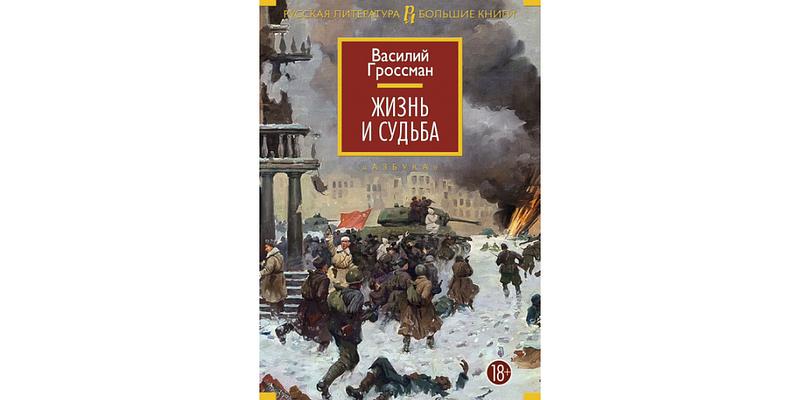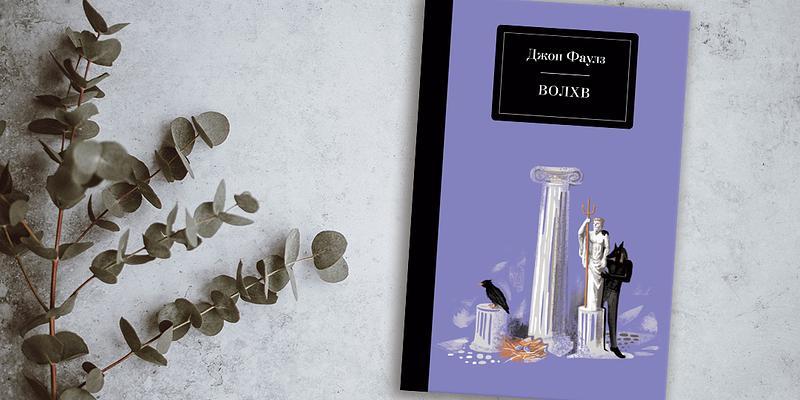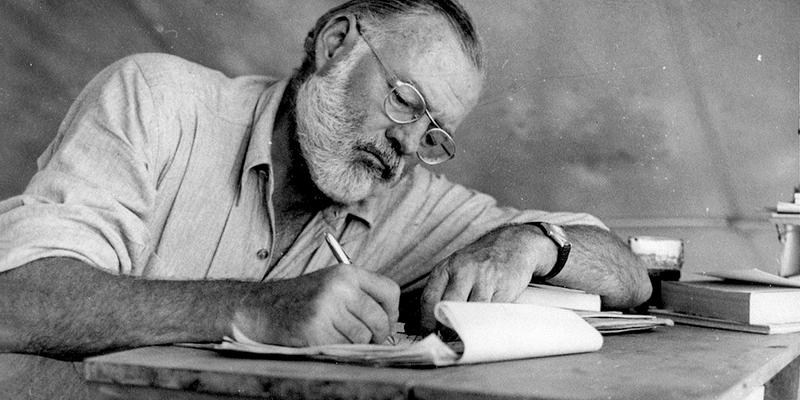Парадокс Гроссмана – это парадокс развития честного коммуниста, который, последовательно идя по пути все большего психологизма и углубления своего таланта, дописался до истины, выписался из советской парадигмы. Гроссман не смог из нее выпрыгнуть, потому что здесь нужна фантастическая высота взгляда, которой никто тогда не обладал. Я думаю, что их всех философов ХХ века (помимо Витгенштейна, который занимался другой проблематикой) такой высотой взгляда обладали два человека, два гегельянца. Один – Александр Кожев (в оригинале Кожевников), а второй – Лешек Колаковский.
Лешек Колаковский в статье 1988 года «Дьявол и политика» ставит вопрос прямо. Он говорит: «Конечно, вера в бога абсурдна. Но разве мир без бога не кажется ли вам более абсурдным?». Мне очень близок этот стиль полемики: «Хорошо, моя вера абсурдна, а ваша разве не абсурднее в разы?» Я думаю, что, наверное, так и есть.
Для такой высоты взгляда Колаковскому понадобилось пройти через марксизм, через антимарксизм, через множество других увлечений. В результате он вернулся к средневековой историософии. Он говорил, что просвещение потеснило настоящую религиозную историософию, но кризис просвещения обозначил возвращение бога и дьявола во всемирный дискурс. Я помню, как мне Житинский сказал в 1989 году: «Они упрутся в бога. Они без бога не обойдутся». Я думал тогда, что это абсурд, а оказалось правдой.
Так вот, Гроссман уперся в бога. Или, во всяком случае, Гроссман уперся в проблемные вопросы, для разрешения которых ему не хватало метафизической храбрости. Но если бы он прожил подольше – судя по повести «Все течет», – он бы к этому подошел.
Я всерьез полагаю, что «Жизнь и судьба» – это вторая часть трилогии. Если бы напечатали второй роман или если бы он появился хотя бы на Западе… Все великие русские писатели умирают на полпути: не написан второй том «Мертвых душ», не написан второй том «Братьев Карамазовых», не написан третий том «Жизни и судьбы» (или «За правое дело»). Я не знаю, как называлась бы эта третья часть. В это же самое время это пытался написать Казакевич роман-эпопею «Новая земля», роман, от которого пятая часть осталась. Он для этого романа копил силы все время, но тут же умер от рака, как и Гроссман. Потому что саморазрушительная борьба с собой приводит иногда к таким заболеваниям. Тут область психосоматики, в которую я заглядывать не хочу. Это как не снятый третий «Иван Грозный», потому что третья часть фильма должна была заканчиваться зрелищем маленького Ивана, который вышел к огромному морю. Он решил геополитическую задачу, но задачу богоравенства он решить не может. Вот это был бы великий фильм. И он один на фоне моря – это не было бы сценой триумфа.
Я думаю, что точно так же недописанная третья часть «Жизни и судьбы» должна была снять главные проблемы. Гроссман, безусловно, прав в том, что и фашизм, и коммунизм – это два неверных ответа на неизбежно поставленный историей вопрос. Вопрос же этот сводится к тому, что ни одна революция, ни одно преобразование вообще не становится антропологическим. Невозможно никакими внешними воздействиями заставить человека быть свободным.
Ключевой эпизод романа Гроссмана – это когда у него приговоренный дезертир, который там лепит зайчика из хлебного мякиша, придя в сознание (его недострелили), приполз обратно в тюрьму. А «расстреливать два раза уставы не велят». Вот это поразительно страшная история.
Вообще Гроссман пришел к пределам советского мировоззрения. Он высказал все и даже больше, чем советскому мировоззрению положено понимать. Но главное, что он вышел на принцип человеческой, антропологической недостаточности. Герои «Жизни и судьбы» остались не преображенными. Не только Крымов, который, в сущности, ортодокс, не только Мостовской, который очень умный ортодокс, но и прежде всего, конечно, Штрум, который осознал свою человеческую слабость, свою человеческую недостаточность. Поэтому в сцене разговора со Сталиным он и испытывает такое подобострастие.
Может быть, женщины знают какую-то эту последнюю тайну, а женщины у Гроссмана всегда выше, умнее и органичнее мужчин, как Женя. Но при этом боюсь, что он и здесь остановился на полпути. Драма Гроссмана – это драма советского человека, который понял больше, чем положено советскому человеку. И это понимание разрушило его земную оболочку. Это так получилось потому, что Гроссман был человеком 20-х годов, когда он был подростком; человеком 30-х годов, когда он был под сильным влиянием конструктивизма. И замечательная его «Повесть о любви» – это именно конструктивистское произведение до мозга костей. Это именно «большевики пустыни и весны», люди дела. И вот как и Платонов – человек с техническим образованием и инженерным мышлением, – он понял, он дошел до фундаментальной неправильности советского проекта, до его нежизнеспособности. Но главное ведь, понимаете… в чем главный вызов, неправильным ответом на который были фашизм и коммунизм?
Человеческая природа диверсифицируется. Вот это то, что меня наиболее мучает и напрягает. Человек не остается… то есть в своем развитии человечество дошло до того предела, за которым некоторая его часть становится невидимой, неуправляемой. Это и людены по Стругацким, это и Третий завет по Мережковскому. Это то, о чем говорят все. Совершенно очевидно, что идет масштабное расслоение, и универсальных правил больше нет.
Нет больше универсальных правил, которые пригодились бы для всех, универсальных ответов, которые всех бы устраивали. Это расслоение будет вести и к коммунизму, и к фашизму. А сегодня оно повело к величайшему историческому разлому, потому что Украина – это только первая трещина того огромного исторического разлома, на который уйдет весь XXI век; того деления на два совершенно новых человечества. Я боюсь, что «Все течет» – оно об этом.
Хотя надо сказать, что у Гроссмана этот вопрос так или иначе поднимался во всем, что он писал. Вот «В городе Бердичеве» есть Вавилова, а есть Магазаники. Вавилова – это новый человек, для которой все человеческое чуждо. Магазаники с их любовью, добром, теплом и бытом – это прежнее . И вот помните, когда Магазаник говорит жене: «Это не мы. Такие люди были в Бунде».
Да, действительно, это величайшая драма исторической эпохи. Я не знаю, каким будет выход из этого исторического разлома. Я надеялся, что одна часть людей научится быть невидимой для другой, но этого не получилось. У Украины не получилось стать невидимой для России и не получилось ввести себя такие темпы развития, чтобы темпы восприятия России навеки отстали. Но надо сказать, что весь роман Гроссмана – это роман о разделении на жизнь и судьбу. Сейчас я поясню смысл названия, как он мне рисуется.
Он ведь долго искал название. Сначала это был «Сталинград», потом – «За правое дело», которое я, кстати, ставлю выше, чем «Жизнь и судьбу» (по художественному исполнению). Просто потому, что в «Жизни и судьбе» автора волновали слишком серьезные проблемы, чтобы он мог думать еще о стилистике. Но «Жизнь и судьба» – это четкое разделение. Одни люди живут жизнью, то есть биологической жизнью, то есть сегодняшними нуждами, то есть приспособлением, то есть прагматикой. А другие люди живут судьбой. Судьба – это суд бога, это божье предназначение. Люди жизни – их в романе очень много. Они составляют большинство. А люди судьбы – это Крымов, который мне, в общем, в романе не очень интересен, потому что он немножко плакатен. Это прежде всего Штрум, это Женя, это Мостовской, это Иконников. Это люди, поставленные перед необходимостью понимать. И Гроссман сам был человеком судьбы. Большим человеком, который вынужденно, невзирая на всю – сначала классовую, потом биографическую – ограниченность, разрывал эти барьеры.
Понимаете, я не очень люблю роман «Жизнь и судьба», я его не перечитываю, и он не кажется мне ни стилистическим шедевром, ни романом большой изобразительной силы (хотя там есть великолепные куски), но суть Гроссмана – не в изобразительной силе. Проза Гроссмана голая. Он пытается сделать ее как можно голее. Он хочет поставить человека лицом к лицу с последними вопросами бытия.
И мне, по большому счету, не очень интересны его философские отступления, потому что философские отступления гораздо лучше пишет Эренбург. Эренбург как публицист лучше, да и потом, понимаете, в его романе «Буря» есть по-настоящему глубокая, антропологическая ненависть к немцам. Для него это уроды. Он пишет это с настоящей не столько еврейской, сколько с французской ненавистью и страстью. У Гроссмана этого нет. Гроссман вообще не очень сильный писатель. Гроссман – великий мыслитель, честный думатель; человек, который сначала честно верил в одно, а потом честно в этом разуверился. Это человек предельной честности, предельной совести. И отсюда эти его пронзительно синие глаза – глаза, о которых все вспоминают. Глаза, которые смотрели так пронзительно, что нельзя было под этим взглядом лгать.
Я думаю, что Гроссман впервые осознал проблемы, на которые у него не было ответа. Но его роман остается вечно тревожащим упреком. Будем совокупными усилиями писать третий том этой книги. По крайней мере, писать его своей жизнью.