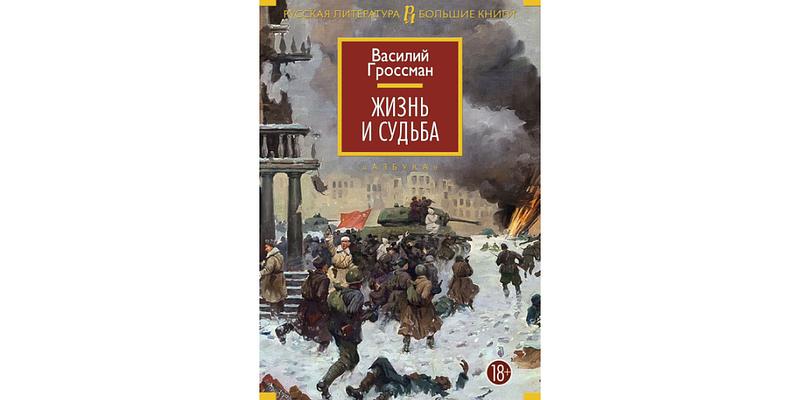Ну, здесь как раз я не фанат романа Гроссмана, и он мне кажется стилистически несколько монотонным, и вообще скорее все-таки в лучших своих проявлениях публицистическим, нежели философским, но роман великий, и с этим я спорить не могу. И пусть гроссмановская высота взгляда, на мой взгляд, все-таки недостаточна, но кто я такой, с другой стороны? Поэтому, конечно, «Война и мир» не состоялась. Но и советский проект в целом был трубой пониже и дымом пожиже, поэтому ничего и не могло особенно-то состояться. Давайте исходить из того, что есть. Как раз исходя из этого, вот это появление в романе темы страха Штрума, мне кажется, принадлежит к числу выдающихся психологических именно достижений Гроссмана.
Ведь тут какая штука? И об этом уже писал Некрасов в «Последыше», и я много говорил в последних программах. Когда вы пытаетесь заново пережить вернувшееся рабство, пережить, условно говоря, Юлиана-отступника, вам, особенно если вы человек слабый или нервный, на короткий момент начинает казаться, что это навсегда, что вернулось нормальное, естественное положение вещей. Это, конечно, не так. Вернулось больное и извращенное положение вещей. Но в какой-то момент это выглядит поначалу как возвращение такой чудовищной нормы.
Вот Штрум после того, как он подвергся травле и прожил под угрозой смерти какое-то время, его спасли, возвеличили, вознесли, вставили в команду ядерщиков, готовящих бомбу. И после этого пережить ещё и кампанию против врачей и сохранить в ней железную такую волю, несгибаемую — этого он уже не может. Уже у него есть опыт, когда он держался крепко, когда его спасли. И держаться второй раз он не может.
Это ситуация очень точно осмысленная, послевоенная. Потому что ведь после войны что происходило? Вернулись победители — победители, которые думали: «Ну, теперь-то все». И у Пастернака в поэме «Зарево», которую он именно поэтому не смог закончить, что быстро все понял, именно в поэме «Зарево» у него ясно сказано, что теперь «не пой мне больше старых песен, нас уже не загонят в состояние ничтожества, в состояние рабства». Загнали очень быстро. И фронтовики…
Вот тоже вечный вопрос: как фронтовики, которые не боялись на фронте, как они опять боялись ночных звонков? Больше того — боялись увольнения с работы. А действительно, на фронте страх другого порядка. И даже не страх, а там во многом азарт боя. На фронте, мне многие говорили, дед в том числе, на фронте было не так страшно, как в тылу, потому что на фронте от тебя что-то зависит. И главное, ситуация драки, ситуация войны — это совсем не ситуация ожидания ареста, когда за тобой придут. Вторая ситуация унизительна. Смерть на фронте быстрая, а здесь она медленная и задевающая, кроме того, всех, кто тебе близок. Когда тебя убивают на фронте, вместе с тобой не убивают семью. А когда за тобой приходят ночью, велика вероятность, что под арест подводят всех, кто тебе дорог.
Более того, гибель на фронте — это гибель в общем героическая, умираешь как человек. А гибель в застенках — это гибель унизительная, мерзкая, это позор. Ну, во всяком случае это так воспринимается. И поэтому, конечно, в сороковые годы, в первой их половине многие проявляли гораздо большую храбрость и проявляли её с большим наслаждением, чем во вторую половину сороковых.
И мне, кстати, очень памятны воспоминания Петра Захаровича, друга Слуцкого и Самойлова. И я близко знал Петра Захаровича в его последние годы жизни, и много с ним об этом говорил. Ведь он был кадровый военный, человек, который прошел до Берлина и, кстати говоря, донес с собой надписанную ему на фронте книгу Пастернака. Тогда на фронте был Пастернак, и они увиделись. И именно у него попросил автограф Горелик, а не у Симонова, стоявшего рядом. Это очень важно. Так вот, Горелик рассказывал, что и Слуцкий, и Самойлов, и он сам — компания ещё ифлийских времен — на фронте боялись меньше, чем после фронта. Так что ситуация Штрума в каком-то смысле абсолютно естественная. И это общая российская драма. И не только российская, впрочем.