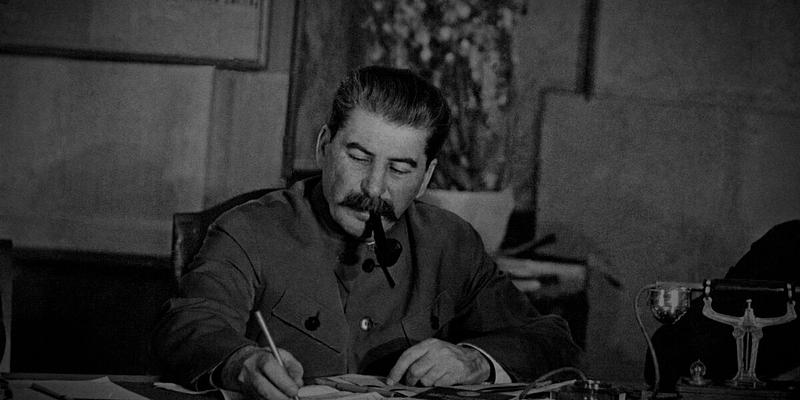Хорошо отношусь. Солженицын был неуместным в школьной программе, в каком-то смысле показателем бесчувственности, чутья у Путина. Явилось желание включать «Архипелаг ГУЛАГ» в круг школьного чтения… Хотя, может быть, это было желанием замылить глаз школьника, как-то привести к тому, чтобы «ГУЛАГ» воспринимался как скучная обязаловка. «ГУЛАГ» был прочитан миллионами, потому что это была книга сенсационная. Солженицын вообще поставщик сенсаций на книжный рынок, как и «Двести лет вместе» были сенсацией, да и «Красное колесо» было сенсацией – по первым публикациям многих сенсационных документов. Просто забытых документов, газетных.
Для Солженицына органично, естественно, правильно быть запрещаемым. Для Солженицына нормально быть культовым, подпольным писателем, которого стараются заткнуть, стараются прижать, не дать ему высказаться. Старая моя мысль о том, что для каждой литературы существует своя оптимальная форма подачи. Par example, Бродский с невероятной плотностью его поэтической речи и сам печатал свои тексты на машинке через один интервал, чтобы больше места оставалось, больше помещалось, и к нам приходил (это же было в докомпьютерное время) в перепечатках – таких же, почти без полей, с невероятно плотным размещением текста на странице. Конечно, имени автора там не было, потому что за тексты Бродского можно было попасть – и за хранение, и за распространение.
Просто эти плотно набранные рукописи и были «ниоткуда с любовью». Они и приходили ниоткуда, никто не знал, как выглядит Бродский, где он живет. Каждый его представлял себе сам. Он, кстати, оказался довольно похож на мое представление о нем, но ведь фотографий же не было. Ну откуда в моих кругах – близких к диссидентским русским, но далеким от эмигрантских – получить фотографию Бродского? Я ее впервые увидел в 1987 году, когда Нобель случился. Увидел сразу и съемки с ним, и многочисленные портреты. Мы Бродского представляли каждый по-своему. Мое представление оказалось довольно точным. Нет, было понятно, что он рыжий, голубоглазый, сероглазый, легко краснеющий, в молодости веснушчатый, рано лысеющий. Ну и выражение лица такое гамлетовское, трагически-ироническое было мне представимо. Я очень любил Бродского по ранним текстам, крайне эффектный поэт. Я и сейчас отношусь к нему с огромным пиететом.
Но органичная форма существования его текстов в России была далеко не книжная, а именно вот эта плотная машинопись. Органическая для Солженицына форма существования тоже подпольная, и это не потому, что он подпольный человек. А потому что он Самсон, обрушивающий храм. Каждый же живет в своей мифологии. И он, конечно, не рожден быть канонизированным. Он рожден находиться с властью – даже с американской, когда он сюда попал, – в контроверзах, в непонятках, в неприязни, в уважительной дистанции в лучшем случае. Но ни в коем образе не в симфонии.
Солженицын в школьной программе – это такой же оксюморон, как Уленшпигель в парламенте. Он, наверное, был бы эффектен в парламенте (он хорошо говорит), но это не его дело. Он странствующий проповедник, а не парламентарий. Парламентером он как раз мог бы быть довольно эффектным.
Я думаю, что «Архипелаг ГУЛАГ» лучше всего читается, когда его дают на одну ночь. Это старый анекдот: «Чтобы ребенок прочитал «Войну и мир», ему надо дать ее на одну ночь на бледном ксероксе». Очень многие люди, впервые читавшие «Доктора Живаго» говорили, что эту книгу за одну ночь читать нельзя. Другие люди – и к их мнению я склонен прислушиваться – говорили то, что «я выпил это залпом – и оно на меня подействовало». И я сам говорил в книжке о Пастернаке, что роман, который писался 10 лет, надо писать в час по чайной ложке, надо читать в день по две страницы, потому что густота, плотность пастернаковского письма, пастернаковской мысли при всей простоте текста… Нет, вся простота здесь иллюзорна: это серьезный, трудный текст, рассчитанный на большое и долгое восприятие.
И тем не менее, когда вы пьете это залпом, на небе у вас оседают, у вас в памяти оседают какие-то самые важные куски, память их отфильтровывает автоматически. И на этом автопилоте можно понять в романе главное. Вот я при первом чтении.. Мне ведь тоже его пришлось читать стремительно. Я хорошо помню, как Катька Лопаткина, замечательная подруга юности моей, принесла мне эту книжечку формата Библии (на такой же тонкой бумаге). И как я стал на всю жизнь «рабом» Варыкина (глав «Снова в Варыкине», «Рябина в сахаре», финала с этой мадемуазель Флери), вот это я на всю жизнь запомнил: то, что шокировало, потрясло меня при первом чтении, осталось со мной навсегда.
Солженицын – это писатель для подпольного, быстрого чтения. Стремительно написанная книга (это надо было обладать невероятной самодисциплиной, чтобы так быстро переработать такой объем информации и так структурно точно его изложить); я помню, как Евгения Вигилянская нам рассказывала, что только математик мог так легко структурировать эту книгу, так бесконечно точно классифицировать, по всем ящикам разложить это разномастное бюро. Это огромные факты, огромное количество разнородных свидетельств, которые еще и отфильтрованы по степени их достоверности. Есть ли ошибки там – безусловно, архивы-то закрыты. Но надо заметить, как поразительно точна народная память, которая многое донесла.
Те триста первых свидетельств, с которого начался «Архипелаг…», те триста первых читательских писем, которые Солженицын получил после «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире», легли в основу книги. И они, надо сказать, обработаны с потрясающим знанием и чутьем. Солженицын из личного лагерного опыта сделал бесценный фильтр, позволявший понять, что возможно, а что невозможно.
У Шаламова этот фильтр был еще более жестким: он считал, что и в «Одном дне Ивана Денисовича» допущены фактические ошибки. Например, по лагерю гуляет кот. «Да его сразу же убили бы и съели». Солженицын видел этого кота, у него был личный опыт другой, не такой страшный – северо-казахстанский, экибастузский, джезказганский, но не колымский. Шаламов действительно видел ад. Солженицын сам писал, что был все-таки «в круге первом» (шарашке), а потом в круге втором и третьем. То есть до самого ледяного ада не дошел и в него не вмерзал. Поэтому у них с Шаламовым были и абсолютно разные жизненные установки, кстати.
Но и Шаламов признавал, что «Архипелаг ГУЛАГ» – это энциклопедия. Сам он написал бы иначе, он отказался от сотрудничества с Солженицыным; он писал, что тот слишком политик, но и Шаламов, знаете, человек, который ни о ком, кроме Демидова, не отзывался хорошо. Да и с Демидовым умудрился поссориться. Это его солагерник, харьковский писатель и физик, которого Шаламов считал единственным порядочным человеком, встреченным на Колыме. Как ни относись к Шаламову, его критерий при оценке личностей нельзя считать справедливым.
Солженицын сделал титаническую, великую работу. Его книга – безусловный, безупречный памятник и совершенно нового жанра, и совершенно нового подхода к исследованию, это опыт художественного исследования, выдержанный на высочайшем техническом, повествовательном уровне. И «Архипелаг ГУЛАГ» – это книга не для школьной программы.
Солженицын по природе своей боец, он обязан быть под запретом. И чем скорее «Архипелаг ГУЛАГ» будет запрещен в России, тем больше народу не только прочтет эту книгу, а и поймет эту книгу. Эта книга должна быть сама иллюстрацией того, как относятся в России к правде. Канонизация Солженицына – это неправильно. Улица Солженицына – может быть, но Солженицын, против которого не борются, это какое-то отступление от жанра.