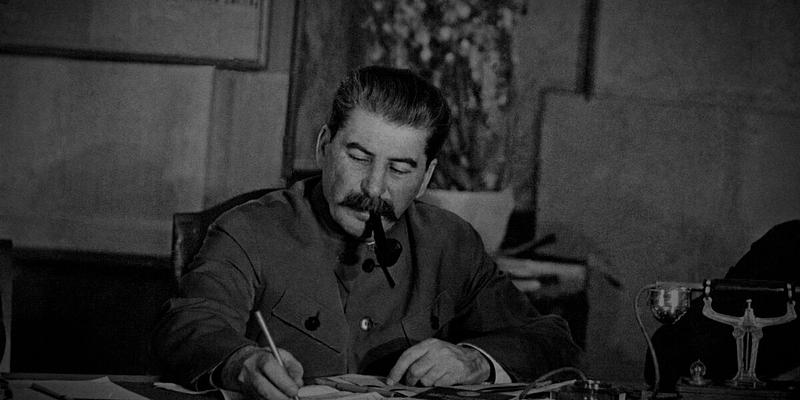Шаламов запоминается больше в силу своей концепции, подозрительной к человеку в целом. Все мрачное запоминается лучше, это такая готика, хотя Шаламов страшнее всякой готики. Что касается Наума Нима, то я не стал бы прозу Губермана с ним сравнивать, потому что Губерман — прекрасный иронический поэт. Он не прозаик по преимуществу, проза для него — это хобби. Она очень хорошая, очень талантливая, но это не его конек. Хотя я «Прогулки вокруг барака» помню во многих деталях, они написаны замечательно, но они написаны более светло, что ли. Ним — это один из главных современных писателей, для меня — один из любимых прозаиков сейчас. Я не беру в расчет, что он мой друг.
Я когда пришел к нему брать первое интервью, прочитав в «Знамени» повесть «До петушиного крика», страшнейшую, на мой взгляд, я был очень изумлен. Я увидел совсем не того человека, который, как мне казалось, должен был эту повесть написать. Передо мной сидел довольно веселый человек, очаровательный, очень контактный, сильно и весело, радостно пьющий,— такой ростовчанин (взяли-то его в Ростове). А я представлял себе страшного аскета — что-то совсем другое. Ним — очень надежный, самурайский по верности, но при этом очаровательный человек. А проза его — это проза не просто мрачная, а проза, подозрительная к человеку, скорее, в шаламовской традиции. Конечно, он верит, что человек способен на преображение, способен на кремневую верность, но человек для него под вопросом. И что «Юби», что «Господи, сделай так», что потрясающие совершено ранние лагерные повести («Звезда светлая и утренняя», «Оставь надежду… или душу» — так назывался у него первый сборник) — это, конечно, железом по стеклу, это страшнейшие тексты, невероятной силы.
Кстати, «Юби» тоже довольно страшное произведение. Но лучшее, что написал ним — это когда у него под псевдонимом Сергей Хвощ печатался рассказ «Витэка сказал». Это такой рассказ о том, что иногда неофит оказывается вернее и прочнее убежден, чем самый опытный диссидент, потому что его вера более слепа. Почитайте, это очень мощный текст. Для меня Ним — это вообще один из первоклассных современных авторов, кстати, большой друг Олега Павлова. Они в каких-то своих взглядах на корни вещей, на коренную мрачную сущность мира они странным образом совпадали. Хотя, конечно, Ним, на мой взгляд, гораздо читабельнее. Но я не могу сказать почему, чем, как он это делает.
Во-первых, конечно, это колоссальная изобразительная сила, чувство, чутье на самую жуткую деталь. Ну и прежде всего, это вечное вопрошание о человеческой природе. Вот Губерман в человека верит. И дай бог ему здоровья, и у него гораздо более здоровая душа, гораздо более здоровое мировоззрение. Ним судит по гораздо более строгому счету. В прозе его много царапающего, болезненного, корявого притом, что она очень увлекательна. Как это ни ужасно звучит, но он даже премию Стругацких получил за «Господи, сделай так» — такой фантастический роман, где начали герои, неожиданно для себя, править миром. Но это все равно довольно лихо, конечно.