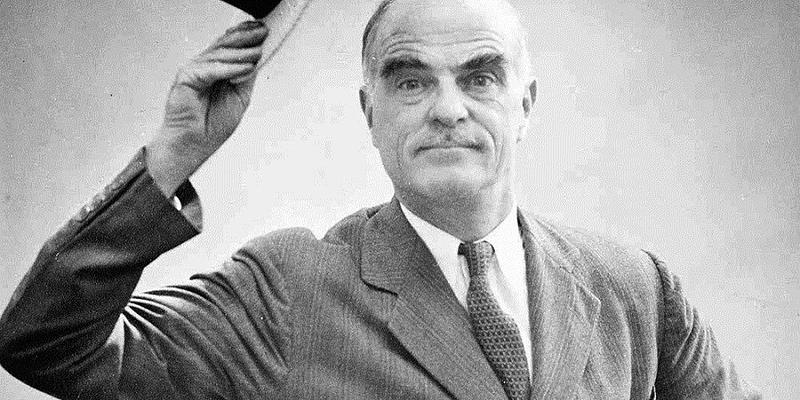Видите ли, насчет Генри Джеймса я готов признать скорее бедность своего вкуса и какую-то неразвитость. Но боюсь, что я мог бы повторить суждение Джека Лондона: «Черт побери, кто бы мне объяснил, что здесь происходит?!» — когда он отшвырнул книгу, не дочитавши десятую страницу, и бросил её прямо в стену.
Генри Джеймс написал, на мой взгляд, одно гениальное произведение. Легко догадаться, что это повесть «Поворот винта». Это первое произведение с так называемым ненадежным рассказчиком, где мы, воспринимая события глазами безумной, по мнению автора, гувернантки, готовы уже заподозрить существование призраков. Я должен вам признаться, что я стою на стороне и вообще на точке зрения ненадежной рассказчицы. Для меня более убедительной является та версия, которую излагает она. Ну, давно сказано, что версия сумасшедшего всегда более логична, потому что в жизни ничего не бывает логично; логично все бывает в теории заговора.
Ну, вот самое популярное, наверное, в мировой литературе произведение с ненадежным рассказчиком, во многом сделанное, конечно, по лекалам Генри Джеймса,— это «Pale Fire» («Бледный огонь») Набокова. Очень люблю этот роман, высоко его ценю. Думаю, что это лучшая книга Набокова. И там действительно версия событий, которую излагать Боткин, считающий себя Кинботом, она более логична, нежели объективная истина. Конечно, приятнее думать, что Джона Шейда застрелил не случайный убийца, а что это роковой убийца Градус, пойманный… то есть позванный убить наследного принца Кинбота из Земблы. Конечно, несчастный Боткин с его дурным запахом изо рта и с его одиночеством, и с его гомосексуализмом, и с его вообще странными фантазиями, он вызывает гораздо больше сочувствия, чем академический поэт, правильный американец Джон Шейд. И хочется верить, что Шейд был убит вместо Боткина, и что вся наша жизнь — это не пестрая пустота, как у того же Набокова в рассказе «Королек», а совершенно глубоко осознанное такое, даже божественное переплетение сложных линий. Но ненадежный рассказчик, к сожалению, неправ.
Точно так же и в «Повороте винта» очень соблазнительно думать, что дети действительно находились в плену ужасных наваждений и что два призрака, два привидения действительно им виделись на озере, на сторожевой вышке, ещё где-то. Почему мне приятна эта версия? Печальную вещь скажу, но дело в том, что дети не только ближе к смерти, как писал Мандельштам («Мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года»), но они ближе и к пороку, и к преступлению, у них плохо с милосердием. Они просто в силу молодости, неразвитости очень часто жестоки. И вот образ этих страшных детей, которые мучают гувернантку и которые находятся в союзе с силами зла, если угодно, он просто художественно более убедителен, чем история про безумие гувернантки. Хотя, конечно, я понимаю, что это она во всем виновата. Ну, она такая очаровательная героиня, и так мне хочется быть на её стороне… Кстати, все экранизации «Поворота винта», особенно фильм конца пятидесятых, все экранизации очень удачные. Это хорошая вещь, страшная, замечательно придуманная.
Что касается остальных сочинений Генри Джеймса — они мне всегда казались дико многословными. Вот это стиль такого плетения словес. Не знаю, «Washington Square», наверное, наиболее все-таки динамичное из его произведений. Ни «Женский портрет», ни «Крылья голубки» я никогда, грешным делом, не мог дочитать до конца.
Что касается Эдит Уортон. Наиболее известный её роман — а именно «Эпоха невинности» — он сейчас, конечно, больше всего известен по замечательной экранизации Скорсезе, а не потому, что это первый женский роман, удостоенный Пулитцеровской премии. Это очень хорошая книга. При первом чтении она может показаться немножко рукоделием, немножко таким тоже… не скажу, что плетением словес (она как раз довольно лапидарно, по-журналистски написана, Уортон имеет большой журналистский опыт), но она пленяет, конечно, своим стилистическим изяществом и ещё одним очень важным качеством.
Это формально довольно простая история, такая светская версия, как бы рассказанная в глянцевом журнале история Анны Карениной. И думаю, что не без влияния, конечно, Толстого. Во всяком случае, вот эта главная героиня — Элен, насколько помню, Оленская — она имеет страшную не только фамилию, такую славянскую, но и огромное сходство с героинями русских романов. В фильме, если вы помните, Мишель Пфайффер играет ее.
Там история нью-йоркского влюбившегося юриста конца семидесятых годов XIX века. Он уже помолвлен, у него там назначено бракосочетание. И тут он влюбляется в дальнюю родственницу матери невесты, недавно разведенную. Ну, они не могут быть вместе. И все это продолжается почти всю жизнь, эти их странные отношения. Хотя близости между ними так и не было никогда. Уже и жена его умерла, и уже там он состарился, и продолжает все её любить. И мелькает её силуэт в окне, а на самом деле это силуэт другого человека. И все никак он не решается с ней сблизиться. Такая прекрасная история неосуществившейся любви.
Ну, конечно, само название «Век невинности» (у нас переводят ещё как «Эпоха невинности», «The Age of Innocence») намекает на то, что совсем по-другому все было в блаженном золотом XIX веке, а теперь пришли совсем другие, гораздо более жестокие и грубые времена. Эта история — это ведь история, как и «Анна Каренина», не только о том, как вот случилась любовь, но долг победил; это история о страшных соблазнах, о страшной эпохе, в которую вступает человечество. Вот ещё немного — и век невинности закончится, и начнутся страшные испытания аморальностью, вседозволенностью, отходом от любых правил. И вот это ощущение, что скоро рухнет мир, оно каким-то образом висит над «Веком невинности». Точно так же, знаете, как над «Войной миров» висит предощущение скорых массовых убийств и беженских толп на дорогах цивилизованного Лондона.
Это книга, писанная, кстати, уже в десятые годы (даже не в двадцатые) XX века, она же задним числом после Первой мировой войны ищет признаки катастрофы в уютном быте семидесятых готов. Больше скажу: там с такой любовью смакуются ритуалы, традиции, костюмы, принципы! Вот этикетная эпоха, действительно эпоха невинности, по сравнению с тем ужасом, который настал. Это очень ностальгическая книга. И важно, что она написана уже в эпоху джаза. И все время мне при чтении её вспоминалось:
Еще раздастся рев ужасный,
Еще мы кровь увидим красной,
Еще насмотримся ужо.
Из Льва Лосева. Вот ещё насмотримся ужо. Это грустное очень произведение.
Ну и конечно, когда читаешь про Эдит Уортон и читаешь её собственные тексты, всегда надо помнить, что Эдит Уортон во время войны была первой женщиной фронтовым корреспондентом, что она на своем автомобиле объезжала поля сражений, что она вместе с дочерью, насколько я помню, бесстрашно фактически участвовала в Первой мировой войне в качестве репортера. То есть это не светская хроникерша, понимаете, а это женщина, которая много повидала и многого хлебнула. И это вызывает, что ли, какое-то дополнительное уважение к её прозе.