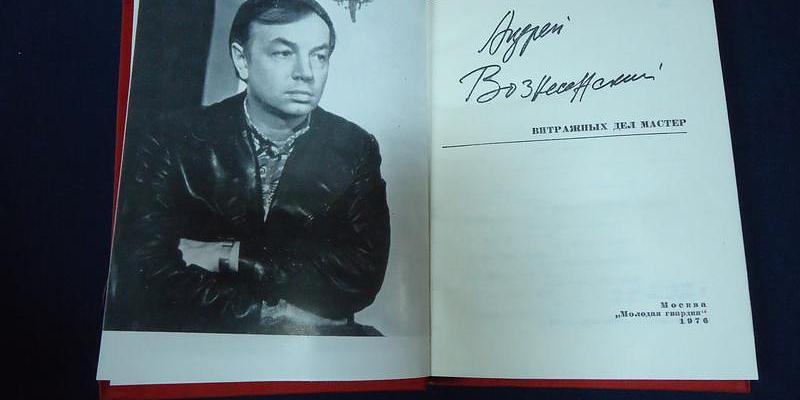Я не просто был с ним знаком. Я рискну сказать, что был знаком с ним довольно близко. И особенно, кстати, я с ним сблизился в последние его годы, когда он довольно много времени проводил в больницах. Меня поражала в этом человеке такая редкая история… Я о его поэзии поговорю отдельно. Меня поражало в этом человеке мужество и, рискну сказать… Как сказала Новелла Матвеева когда-то: «Прежде чем сказать слово «добрый», всегда испытывай лёгкий укол стыда, потому что это слово непоправимо испорчено частым употреблением». Но доброта меня в нём поражала, конечно, тоже.
Я как-то Вознесенского в одном интервью спросил… Меня очень удивляет его нестандартная модель поведения: он практически не пьёт, не замечен ни в каких дебошах, страстно оберегает свою личную жизнь (про внебрачную дочь все узнали только после смерти), демонстративно и подчёркнуто многие годы верен жене и вообще старается вести себя очень прилично. На что он замечательно сказал: «После опыта русского авангарда надо же удивлять хоть чем-нибудь. Тем, чтобы действительно вести такой несколько футуристический образ жизни, сегодня никого уже не удивишь».
Вознесенский был удивительно порядочный человек, страшному количеству людей помог. Мужество его общеизвестно, потому что он, страдая, как теперь уже известно, паркинсонизмом и практически непрерывными инсультами, продолжал держаться, продолжал выступать, он никогда не жаловался. Потеряв голос, остался всё-таки одним из лучших выступающих, хотя его шелестение в микрофон было еле слышно.
И я вам должен сказать, ребята, что я был свидетелем одной штуки… Ну, это было почти «хождение по водам». На парижской выставке у Вознесенского планировался вечер. На этот вечер я вёз его в кресле, потому что он идти не мог. Как только мы доехали до зала, он встал и пошёл. Иногда его подогревали достаточно ревнивые отношения с коллегами. На похоронах Аксёнова он сидел тоже в кресле почти неподвижно. Вышел Евтушенко и прочёл стихи. Вознесенский встал, вышел к микрофону и прочёл, потому что нельзя было, чтобы Евтушенко читал, а он — нет. Вот я за такое мужество. И прочёл он, кстати, потрясающее стихотворение о боли: «Наша жизнь — как дом без фасада. Держись, Васята». И действительно его жизнь была домом без фасада, потому что всё, что там происходило, было видно. Это было, конечно, гениальное мужество.
О книге Вирабова о Вознесенском. Я не разделяю негодования Анны Наринской. Я вообще очень редко разделяю какие-либо чувства Анны Наринской (видимо, потому что они слишком предсказуемы) в её негодующей рецензии. Я много лет знаю Игорь Вирабова, и знаю как очень приличного человека. Когда-то сказал Зощенко, насколько я помню, выпивая за здоровье Шварца на его дне рождения: «В наше время сказать «хороший» — это слишком. Самый большой комплимент сегодня — это «приличный». Вы, Женечка, очень приличный человек». Мне кажется, что Вирабов — человек очень приличный, и никакого антидиссидентства, конечно, в его книге нет. Она, может быть, недостаточно глубока там, где речь идёт об анализе собственно текстов. Но мы дождёмся ещё этого анализа.
Вознесенский своей фигурой яркой и своей блистательной эстрадной славой как-то слишком заслонял поэта, и поэтому очень мало людей, которые бы задумались над собственно поэтической его техникой. Я разделяю мнение Владимира Новикова, своего журфаковского преподавателя и очень хорошего критика (и, кстати, мнение Михаила Рощина, и мнение самого Вознесенского, уж чего там говорить), что лучший Вознесенский — это вторая половина 70-х. Мне ближе всего даже не «Юнона и Авось» (по-моему, 1972 год), а мне ближе всего книга «Соблазн». В этой книге есть поистине превосходное и очень страшное стихотворение «Уездная хроника»:
Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.
Ты помнишь Анечку-официантку?
(Помните? Очень страшные стихи.)
Он бил её в постели, молотком,
вьюночек, малолетний сутенёр,—
у друга на ветру блеснули зубы.
Был труп утоплен в яме выгребной.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для Божьей чистоты!
Потрясающие стихи! Совершенно не вознесенские, очень традиционалистские и не вознесенские формально.
Понимаете, чего нет в книге Вирабова и что когда-нибудь напишут? Вознесенский сам всегда говорил, что, поскольку он из семьи священника, в его жизни и в его поэзии очень много значило литургическое начало (как «Плач по двум нерождённым поэмам»), поэтому у него так много стихов в память об ушедших. Он действительно очень много взял от Пастернака, формально не взяв ничего, но поняв, что главная задача поэзии — это отпевание, это благодарственная молитва и молитва за усопших.
Были ли у него стихи поверхностные? Наверное, были. Он же на всякий случай конкретный отзывался, и отзывался вполне серьёзно. Но при всём при этом он написал количественно очень много шедевров. Сейчас Георгий Трубников составил его двухтомник для Большой серии «Библиотеки поэта». То ли это отбор хороший, то ли это дело любящей руки, но там действительно засияло очень много шедевров.
Конечно, в творчестве Вознесенского есть откровенно эпатажные вещи, такие как «Дама Треф» (помните, там — «Отец Варавва: О, нравы!..»), или откровенно шутейные, как он сам их называл, типа «Вечного мяса». Но поразительно количество серьёзных, лирических, глубоко трагических, очень музыкальных стихов. «Осень в Сигулде» — просто великолепно:
Мой дом забивают дощатый,
прощайте.
Но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном…
Спасите!
Это великолепные стихи. Или не менее великолепные, конечно… Помните, вот этот замечательный… Не памяти, а наоборот — на клиническую смерть Рощина:
Как божественно жить, как нелепо!
С неба хлопья намокшие шли.
Они были темнее, чем небо,
и светлели на фоне земли.
Какая прекрасная интонация! Нет, Вознесенский был, конечно, очень крупный поэт. И надо было уметь видеть это в нём — его древнюю, архаическую лирическую ноту. Я уже не говорю о том, что и моё детство, и детство многих людей 70-х годов прошло всё-таки под знаком этого четверостишья:
И так же весело и свойски,
Как те арбузы у ворот,
Земля болтается
В авоське
Меридианов и широт!
Сколько радости! Какая действительно арбузная свежесть!
Многие (Бродский в частности) говорили, что на фоне Евтушенко он проигрывает, потому что у Евтушенко есть что-то серьёзное, а Вознесенский, что называется, слишком косит под поэта, под авангардиста. Я не разделяю этой точки зрения. И вообще я считаю, что когда высказываешься о писателях прошлого, тут как раз избыточный пиетет не нужен, потому что нужно быть трезвым. А вот когда говоришь о современниках, всё-таки нужно быть осторожным, потому что современники ведь не виноваты в том, что ты, такой великий, живёшь рядом с ними. Их задача — не только служить твоим фоном, но и ещё что-то самим из себя представлять.
Мне кажется, что имя Вознесенского будет в ряду таких же поэтов, как Кушнер, как Юрий Кузнецов, как Олег Чухонцев, как тогдашняя Юнна Мориц, как Окуджава. Это ряд высокий, это ряд, безусловно, первоклассный. И никакими более поздними провалами или ошибками это невозможно погубить. Кстати говоря, мне понравилось, как Вознесенский в одном стихотворении середины 80-х, когда он там рассказывает о таком бизнесмене от села, говорит:
…Пробежим по гоголевскому снежку.
Ты покуда рукопись от второго тома.
Если не получишься, я тебя сожгу.
— и это тоже дорогого стоит.
И вот что ещё мне очень нравилось, чтобы завершить с этой темой. Мне очень понравилась у него одна замечательная мысль в последнем интервью, предсмертном, которое я брал у него, когда он уже еле говорил, крошечными кусками. Мы встречались, и я потом из этого слепил интервью. И вот я ему говорю: «А как вы относитесь к людям, которые на слуху сегодня — например, к Ксении Собчак?» Он говорит: «Лучше, чем ко всякого рода тихушникам. Потому что, когда человек на виду, у него меньше соблазнов сделать подлость, у него больше желания выглядеть хорошо, потому что смотрят». Вот это мне понравилось. Он поэтому и сказал: «Нашему поколению сказочно повезло — на нас всё время смотрели, и мы делать гадости не могли». Я тоже, кстати, не люблю тихушников.