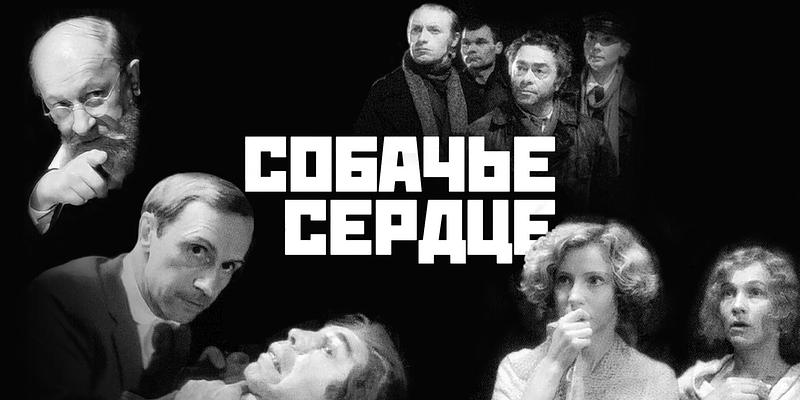Я должен с ужасом сказать, что из военной литературы советской уцелело немного. Уцелела гениальная проза Константина Воробьёва — «Крик» и «Убиты под Москвой». Когда-то Валерий Залотуха мне сказал, что существует тайное общество поклонников Константина Воробьёва, и люди всегда узнают себя по этому критерию. Царствие ему небесное. Залотуха был абсолютно прав. И мы с ним по этой же причине подружились. Константин Воробьёв — это один из самых сильных русских писателей, при этом удивительно ироничных, культурных и удивительно, конечно, пластически убедительных. Потому что то, что он написал о войне, в частности в романе «Это мы, Господи!», в абсолютно юношеском, написанном ещё во время войны по горячим следам плена, после побега из концлагеря,— я думаю, ничего более страшного на эту тему тогда не писалось. И это поразительно мощный текст! При этом Воробьёв — начитанный, умный, культурный писатель.
Я думаю, что уцелела повесть, например, Симонова «Случай с Полыниным». Что касается трилогии Симонова — думаю, что не уцелела. Она в значительной степени не написана, а продиктована. Он диктовал, поэтому там чувствуется многословие, чувствуется довольно стёртый язык, а иногда просто плоский. И герои, к сожалению, там отсутствуют. Герои неубедительны, кроме Серпилина. Да и Серпилин убедителен не всегда. Убедителен Папанов в роли Серпилина.
Остались, конечно, некоторые тексты… Ну, военную поэзию я сейчас не беру. Ион Деген, автор множества замечательных текстов. Юрий Грунин, правда о войне и о плене сказана. И конечно, «Тёркин» Твардовского остаётся, великий текст абсолютно. Да многое остаётся. Исаковский. Многое остаётся. Конечно, и знаменитые стихи Гудзенко «И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую». Со стихами дело обстоит лучше. Стихи — это дело такого быстрого реагирования. А вот осмысление — понимаете, с ним хуже. Повесть Курочкина «На войне как на войне», наверное, останется.
Неизбежен вопрос о дилогии Гроссмана. Я вообще Гроссмана очень высоко чту. Это не самый мой любимый писатель, конечно, но, как мне кажется, у него есть достаточно серьёзный один минус: в этой вещи — в «Жизни и судьбе» — больше публицистики, чем философии. Я ставлю гораздо выше всё-таки первую часть — «За правое дело», в которой есть удивительная пластическая точность и есть ещё вот та честность, которая была присуща первой оттепели, когда о многих вещах заговорили впервые — ну, скажем, о конфликтах интеллигенции и народа в окопах, когда Сергей, мальчик интеллигентный, подвергается в первое время остракизму в массе солдатской. Об этом мало кто писал. Люди на войне не были едины. И вообще мне кажется, что в первой части поверхностности меньше, а больше какой-то мучительной (и мучительной для самого автора) глубины в преодолении собственных заблуждений. Конечно, никакого отождествления советского и фашистского режимов, никакого даже сравнения их не может быть. Да и Гроссман этого не делал, хотя он отмечал многие общие черты в этих режимах.
Что здесь важно подчеркнуть? Что, мне кажется, будет темой будущей литературы о войне? Война действительно выиграна не благодаря, а вопреки Сталину. Об этом многие говорили. Конечно, Сталин — это образ русского царя, а не русского модерниста. А выиграл эту войну русский модерн. Выиграло эту войну новое вненациональное общество, ну, наднациональная общность. Выиграла эту войну вера в способность русского человека, советского человека выживать в нечеловеческих условиях. Эту войну выиграла вовсе не покорность, не готовность тупо идти и жертвовать собой. Самопожертвование войны не выиграет. Эту войну выиграло то, о чём написал Виктор Некрасов: профессионализм, быстроумие, талант, свобода.
Войны выигрываются людьми внутренне свободными. Вот троянцы запрещали оплакивать своих воинов, чтобы это не подорвало их боевого духа, боевого духа выживших. А ахейцы не запрещали, потому что в душе ахейца боевая ярость и скорбь уживались. Выигрывает всегда более сложное, проигрывает примитивное. И то, что Советский Союз был умнее и сложнее гитлеровской Германии — это и привело к победе. Потому что Сталин — на самом деле это как раз консерватор, архаист. А выиграло это войну поколение ифлийцев, поколение модерна. Я думаю, что если бы это поколение не было выбито, оно бы сумело спасти и перестроить Советский Союз раньше. Но Сталин потому подсознательно и нуждался в войне, что война укрепляла его пьедестал и уничтожала, по сути дела, бросала в топку вот это великое поколение. Это ужасная на самом деле вещь, но это так.
Сталин подсознательно стремился к войне, поэтому военной риторикой всё было заполнено. Война была для Сталина главным аргументом. Вы помните, как писал Евгений Марголит, что невроз тридцатых ничем, кроме войны, разрешиться не мог. Война списывала всё. Но, безусловно, в огне этой войны сгорело практически всё то, что могло спасти коммунистический проект. Ну, не коммунистический, а советский проект, назовём это так. Вот без этой констатации, я боюсь, новая проза о войне написана не будет.
Конечно, останутся гениальные повести Василя Владимировича Быкова, которые не столько о войне… Строго говоря, на военном опыте построена только не самая известная его повесть «Его батальон» и замечательный роман «Мёртвым не больно» (ну, тоже повестью он его называл, хотя и по объёму, и по масштабу это роман, конечно). Но при всём при том Быков ведь писал главным образом не о войне, он писал об экзистенциальном выборе, о последних, предельных ситуациях (об этом «Сотников», об этом «Дожить до рассвета»), о бесполезном подвиге, которого не увидит никто.
И трагедия вот эта, трагедия отчасти и Василя Владимировича Быкова была в том, что он не мог эти проблемы поставить ни на каком материале, кроме военного, только военный легитимизировал их хоть отчасти. Только под конец жизни он смог написать своего «Афганца» — жестокую повесть, но повесть о том, что и в мирное время все эти фронтовые добродетели необходимы и спасительны. «Ведь всё равно умрём, ведь всё равно всех убьют. Почему же надо всё время совершать какие-то моральные компромиссы?»
Поэтому повести Быкова — это скорее, конечно, осмысление не столько войны, сколько опыта XX века в целом. Ну, «Альпийская баллада» — это, может быть, ещё о войне. В остальном же это его способ высказываться о человеческой трагедии, о трагедии человеческого существования. Вообще бытование Быкова в советской прозе было довольно парадоксальным, и он существовал как бы всё-таки будучи еле разрешённым. Из того, что напечатал Твардовский в «Новом мире», он ничего при жизни не мог переиздать. Вот до перестройки переиздать «Мёртвым не больно» он не мог, потому что вещь эта о многом рассказывала, в том числе о готовности швырять людей в топку, в топку этой Победы.
Я думаю, что «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева — замечательный, хотя и незавершённый эскиз военной эпопеи. Но опять-таки взгляд Астафьева — это тоже не вся правда о войне. И это взгляд человека, который запомнил самое чудовищное, запомнил быт войны, а к смыслу войны он и не пытался подступаться, потому что он не думал о таких вещах. Он, конечно, был не идеолог, а именно прежде всего изобразитель. «Пастух и пастушка» — великая повесть, она тоже об этом, эта «современная пастораль».
Но нам нужно сейчас, мне кажется, прежде всего осмысление, переосмысление двух вещей. Ещё раз говорю: едва ли наши внуки до этого доживут. Внуки победителей не доживут уж точно. Но будущая военная проза должна будет отвечать на два вопроса.
Во-первых, это вопрос об истоках героизма, потому что, сразу говорю, героизмом называется на войне не только подвиг, но и повседневное существование. Истоки героизма — это вопрос: кто способен выживать и делать своё дело, а кто ломается? Мне, кстати, дед об этом часто говорил, что замечательные воины получаются из бухгалтеров — они и так всё время ходят как по минному полю. Эти сугубо мирные, даже ленивоватые люди на войне оказываются очень чёткими профессионалами.
В чём механизм бесстрашия? Как избавиться от страха? Я думаю, что Тендряков в замечательном рассказе «Донна Анна» впервые плотнее всех подошёл к поискам этого критерия. Где найти критерий, почему один ломается, а другой — нет? Известно, что самолюбование подсекает очень сильно. Вообще высокая самооценка, как правило, является фактором риска здесь. Известно, что физическая выносливость очень важна. Но всё-таки в чём источник настоящей силы духа, откуда она берётся? Боюсь, что мы без каких-то новых военных испытаний на эти вопросы ответить не сможем. А получать такой ценой литературу о войне мне бы, например, не хотелось.
И второй вопрос, который тоже осмысливать придётся,— это вопрос о роли Советского Союза в 39-м году. «Дневники Мура», например, Георгия Эфрона, которыми я много пользовался для последнего, крайнего, скажем так, романа, предпоследнего уже теперь,— в этих дневниках очень подробно и мучительно прослежены недоумения нормальных советских людей, с ужасом воспринимающих резкую фашизацию советской прессы. То, что мы на какой-то момент выступали союзниками Гитлера — это было. И говорить сейчас о том, что «любое упоминание об этом — это подрыв устоев и клевета» — ну, это неверно.
Другой вопрос — надо понять, было ли это стратегической или тактической задачей, было ли это временной уступкой, было ли это спасением советских границ (присоединение Западной Белоруссии), имело ли смысл подписывать протокол Молотова с Риббентропом и секретные протоколы к этому договору или этот договор весь был одной гигантской ошибкой и капитуляцией. Вот к этой проблеме надо подходить серьёзно, потому что, если мы хотим исторической правоты, мы должны прежде всего добиться исторической правды. Невозможно полусловами, полунамёками отделаться от реальной проблемы.
И нельзя всю вину здесь перевалить на Сталина. Но то, что какой-то короткий тур вальса, какой-то момент увлечения, какой-то момент почти такой идеологической симфонии здесь был — об этом придётся говорить. Не только ведь Эйзенштейн ставил «Валькирию» в Большом. Вагнер здесь вообще не решающий фактор. Но и «Милый Ханс, дорогой Пётр» Александра Миндадзе тоже рассказывает о совершенно объективной реальности. Помогали немцам усиленно. И немцы нам, и мы им. Поэтому все попытки замолчать, замазать вот эту трещину — они безнадёжны. Надо чётко совершенно понимать, что происходило у Советского Союза с Германией. Надо помнить, что Сталин пытался искать какие-то ходы для переговоров с Гитлером даже в сентябре-октябре. Здесь нужно это помнить.
Другое дело, что опять-таки мотивы Сталина при этом могли быть разными. Может быть, он спасал страну, а может быть, он спасал свою власть. Обо всём этом тоже стоит подумать. В любом случае, настоящая правда о войне говорилась в России в три этапа, и вся военная проза имела эти три этапа.
Сначала это просто воспевание героизма, воспевание подвига, во многих отношениях лакировка, пока не появилась лейтенантская проза. Второй этап — это та самая лейтенантская проза, проза о войне, которая печаталась в пятидесятые и шестидесятые годы. Но опять-таки установки этой прозы были пацифистскими, там говорилось о том, что война — это не героическое дело, а кровавое и мучительное дело.
Но вот третий этап, на мой взгляд, ещё не наступил. Третий этап — это попытка ответить на вопрос: война формирует нацию или она формирует фантом вместо нации? Вот это вопрос, кстати, к вашему старшему или младшему брату, дорогой украинский собеседник, вот о том националисте. Можно сказать, что война нацию формирует. А можно сказать, что она загоняет вглубь её проблемы. Война действительно всё списывает, но ни одной проблемы она не решает, она загоняет их вглубь.
И Победа в Великой Отечественной войне, с одной стороны, раздавила в мире самое страшное зло, самое страшное зло в мировой истории, хуже фашизма ничего не было. Фашизм — это квинтэссенция всего самого омерзительного, что есть в человеческой природе, сознательное радостное искажение человеческой природы, искажение божественной природы, это сознательное радостное преступление, наслаждением грехом. Но, с другой стороны, эта война очень укрепила Сталина, укрепила его режим. И можно ли сказать, что нация была сформирована? Можно ли сказать, что советская нация оформилась, отковалась в этой войне? Вот это вопрос, на который предстоит отвечать.
И вообще вопрос о том, как война влияет на нацию. Что получается? Вот у Толстого в «Войне и мире» этот вопрос задан. И получилось, что эта скрытая теплота патриотизма нацию действительно формулирует, формирует. Под влиянием этого толстовского гипноза мы живём до сих пор. Но вместе с тем не всякая война и не всякую нацию — вот что важно. Потому что Наполеон-то Францию погубил. Нацию-то он сформировал, но Францию-то он погубил. И в результате Франция… Я думаю, что истоки её вишистской катастрофы лежат именно в катастрофе Наполеона. Вот здесь есть о чём подумать.
Пока мы не научимся думать и задавать вопросы, пока война будет загонять все наши проблемы вглубь, мы правду о войне не напишем. Нам остаётся надеяться только на то, что хоть когда-то свободный разговор на эти темы будет возможен.