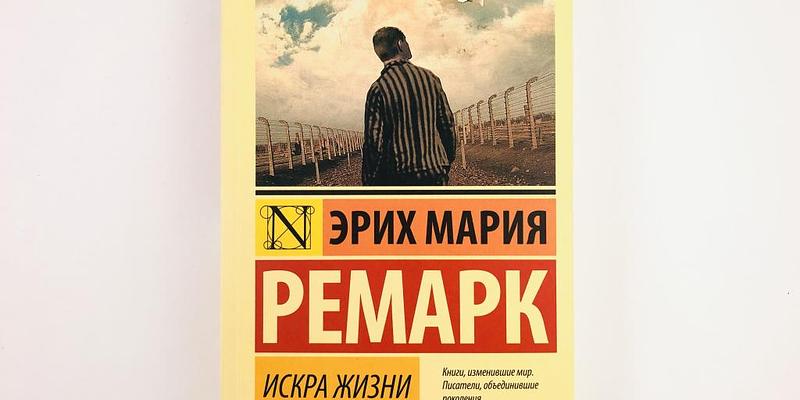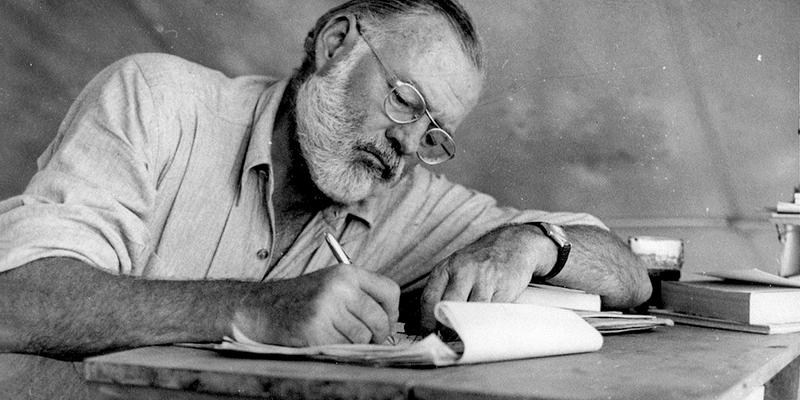Я не могу вспомнить ни одного русского такого романа воспитания о потерянном поколении. Ну, причина довольно очевидна: у нас же это разрешилось в революцию, а во всем мире — нет. Поэтому рефлексия по поводу Первой мировой войны в российском обществе и не оправдана, потому что это для Хемингуэя и, может быть, для Ремарка это поколение было потерянным, а для России эта война привела к революции, вырастила поколение революционных борцов, блестящих людей. И говорить здесь о каком-то потерянном времени, в которое страна так бездарно ухнула на четыре года? Нет, этого не было.
Но проблема ещё в одном. Понимаете, у меня была когда-то довольно большая статья о Ремарке, где я пытался объяснить типологию военных романов. Вот есть романы пацифистские — о том, какой ужас — война. Условно говоря, барбюсовский «Огонь» и отчасти Олдингтон. Есть романы воспитания, типа «Воспитания под Верденом» (это роман Арнольда Цвейга), ну и другие замечательные люди. В особенности много у немцев, конечно, было таких текстов. Это история о том, как формируется во время войны характер. Были романы социальные — о том, как война формирует борцов. Ну и наконец, романы религиозного плана — с такими жестокими вопрошаниями к Богу: если он действительно все видит и контролирует, то как он допускает такое зверство?
Нужно вам сказать, что Первая мировая война была для мира гораздо большим шоком, чем Вторая. Некоторые считают, как Максим Кантор, что это была одна война с двадцатилетним перерывом. Но я, вообще-то говоря, склонен думать, что Первая мировая война больше шокировала мир именно потому, что она была совершенно бессмысленной и беспричинной. Вот это было в четко совершенно виде действие закона истории, безличного и беспощадного. Эта война имела одну причину — пресыщенность мира культурой и такое расчеловечивание довольно быстрое, достижение потолка сложностей, когда думали прыгнуть в сверхчеловеческое состояние, а прыгнули в результате в недочеловеческое.
Ну и по большому счету Первая мировая война случилась потому, что это была попытка темных сил затормозить перед прорывом в модерн, это была попытка убить модерн. Ну и она почти осуществилась, потому что по странному совпадению вышло так, что модерн победил только в России, и то ненадолго; весь остальной мир был отброшен в чудовищную архаику, в архаику фашизма. И все участники мировой войны, кроме Штатов, которые она задела по минимуму, только крылом, все участники мировой войны были отброшены на позиции домодернистские, на позиции середины XIX столетия. Это очень, конечно, обидно.
Почему этого не было в России? Ну, потому что в России война воспринималась как пролог к революции. Вообще в России все проблемы режима до такой степени уже подошли к критическому порогу, что единственное, что можно было сделать — это перевод войны империалистической в войну гражданскую. По сути, в российском сознании война воспринималась как первая ступень революции, первая ступень вот этой революционной ракеты. Во всяком случае, именно так она трактовалась в главном эпическом романе — в «Хождении по мукам» Алексея Толстого. Так же трактовалась она в «Тихом Доне» шолоховском. И естественно, что все остальные эпопеи созидались по этой матрице и начинались с войны. Ну, так же как у Толстого роман о войне двенадцатого года начинался с Аустерлица, с пятого, так же и все русские революционные эпосы начинались с четырнадцатого и даже тринадцатого года.
Тут надо ещё отметить, конечно, что, по крайней мере, пара книг о войне, о том, как человек на войне меняется, самовоспитывается и так далее, она была написана, такая попытка была. Это прежде всего гумилевские «Записки кавалериста» — на мой взгляд, выдающееся произведение, хотя в нем, конечно, самого автора (и это понятно) гораздо больше, чем войны. Это книга «Народ на войне», об авторстве которой до сих пор спорят и которая, скорее всего, была действительно не столько синтезом каких-то записей о народе, сколько творчеством одного человека.
Ну, если уж так смотреть, то ведь большинство российских фольклорных произведений — ну, квазифольклорных — были на самом деле произведением совершенно конкретных авторов. Ну, например, бажовские сказы — я думаю, что участие самого Бажова здесь было, так сказать, подавляющим, главным. Он сам это все выдумал, а не записывал, но ведь согласно русским, тогдашним советским установкам только народ может быть творцом фольклора, истории, искусства и так далее. Поэтому и Софья Федорченко вынуждена была свою картину фольклора, свои зарисовки выдать за народные, но тем не менее «Народ на войне» — это важная книга.
Думаю, кстати говоря, что из Алексея Толстого наибольший интерес представляют из всего его новеллистического наследия именно его военные корреспондентские, сделанные для «Русской мысли» и для другой петроградской прессы зарисовки четырнадцатого-семнадцатого годов. Мне представляется, что Толстой вообще как прозаик начался с этого своего военного опыта, потому что все, что он писал до этого, было как-то очень блекло.
У меня есть чувство, что воспитание героя, метафизический аспект войны — это в русской литературе XX века вообще было как-то скрашено. И именно поэтому большинство романов о русском сопротивлении фашизму, большинство романов о Второй мировой войне — они тоже имеют скорее социальную, антифашистскую, глубоко советскую природу. А роман о том, что с человеком происходит на войне при столкновении с жестокостью войны — этого очень мало в русской культуре. Ну, может быть, «На войне как на войне». Может быть, «Школяр» Окуджавы. Курочкин, Журавлев… Может быть, вот это. Василь Быков, конечно, с его экзистенциальной прозой, по преимуществу партизанской, где все-таки люди сами принимают решения, или с «Его батальоном», замечательным романом.
Но по большому счету, конечно, ещё русская военная проза по-настоящему не написана, потому что она гораздо шире социальной, военной, политической проблематики. Вот война в человеческом её измерении — это всегда преследовалось, это называлось пацифизмом. «Мы воюем с фашистами»,— это надо все время подчеркивать. «Мы смерти не боимся. Мы — носители нового мировоззрения». А просто перерождение человека на войне — это есть, пожалуй, ну в очень небольшом, может быть, количестве глав, скажем, в «Жизни и судьбе» у Гроссмана, где есть вот этот мальчик Сережа, попавший в среду, где ненавидят интеллигентов, а потом становящийся постепенно в ней своим. Или, может быть, это «В окопах Сталинграда», где есть становление героя-профессионала.