«Волны» — одно из самых мрачных, именно потому что компромиссных сочинений Пастернака, и в нем как раз о том идет речь, что человек принимает эпоху как упряжь. Волны — это история, исторический процесс, они ритмически накатывают на берег. Это механическая сила, а человеческая воля находится в противоречии с историей, с механическим кругом ее повторении. Волны — «прибой, как вафли, их печет» — это довольно страшная метафора исторических волн, заложником которых человек становится. «И ноги окунем в белок» — понятно, что мы зайдем в эту пену, но мы должны понимать, что рано или поздно это море разбушуется, и нас, если угодно, смоет. Это, понимаете, такой роман Пастернака с Грузией, попытка воспринять Сталина через Грузию, оформясь во что-то прочное, как соль. Попытка увидеть, попытка примириться с новым поворотом эпохи. Мрачная получилась поэма:
Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.
Но при этом эта «огромность квартиры, наводящей грусть» — это предельное одиночество в мире, который уже абсолютно холоден к человеку. И прежнего пастернаковского контакта нет, эти суровые, довольно холодные ямбы волн, которые тоже прибой печет, как эти вафли, монотонность, мрачность его — это по ощущению очень похоже на грузинские стихи Заболоцкого про Казбек: «На острые камни его».
Понимаете, Пастернак думал, что Грузия — это рыцарская страна, что Сталина можно понять через нее. Это попытка понять эпоху через кодекс чести, через эту мощную соль. Попытка сделать из Сталина художественную фигуру. В огромной степени это попытка принять горы как произведение искусства, как такую одухотворенность. А Заболоцкий уже понял (это стихотворение уже 1957 года): «Я вышел на воздух железный…». Там все уже понятно. Вот эта концепция Кавказа, кавказская тема в описании Сталина интересна, она заслуживала бы, пожалуй, отдельной глубокой филологической работы, потому что грузинская тема в русской поэзии в 30-е годы — это все попытка понравиться Сталину и понять его. Хотя Сталин — фигура для Грузии, в общем, неорганичная, и грузинским нравам враждебная, и попытка увидеть в его облике кавказскую честь, кавказские представления, кавказские горы, их мощность — попытка довольно проигрышная. У меня есть опять-таки ощущение, что «Волны» — это памятник насилию поэта над собой. Там есть замечательные фразы, типа:
Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум,—
Одним концом — ночное Поти,
Другим — светающий Батум.
То есть попытка поэта в творческом процессе обнять и вместить противоположности. Прямым продолжением «Волн» является вот этот фрагмент «Художник»:
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал.
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
Условно говоря, «одним концом — ночное Поти, другим — светающий Батум». Батум, понятное дело, еще с его сталинскими коннотациями. Но Сталин, как мы знаем по его реакции на пьесу «Батум», не доверял грузинскому периоду своей биографии. Видимо, потому что в Грузии он-то был не Сталиным (он говорил: «Все молодые люди одинаковы»), а он был униженным и робким уродцем, хотя и очень, конечно, мечтательным и пассионарным. Мне представляется, что вот эта такая провальная попытка русской литературы сделать из Сталина «чудесного грузина» и понять его через Кавказ и через кавказскую культуру,— это так же наивно, как в фильме Абуладзе «Покаяние» (это высмеяно там замечательно) делать тирана читателем стихов, любителем Пушкина. Это попытка заведомо обреченная. Именно поэтому «Волны» — такое мрачное произведение, такое непраздничное.
И, кстати, Пастернак же писал его в состоянии депрессии: он уехал в горы, уехал с Зинаидой Николаевной и сыном ее, по-моему, там был один сын, по-моему, они Адика не взяли, но это надо посмотреть. Ему все это время мучительно снился, как можно судить по «Доктору Живаго», собственный мальчик, снилась прежняя семья, и он совесть мучился очень сильно. Нет, эта поездка в Кобулети была довольно отчаянной.


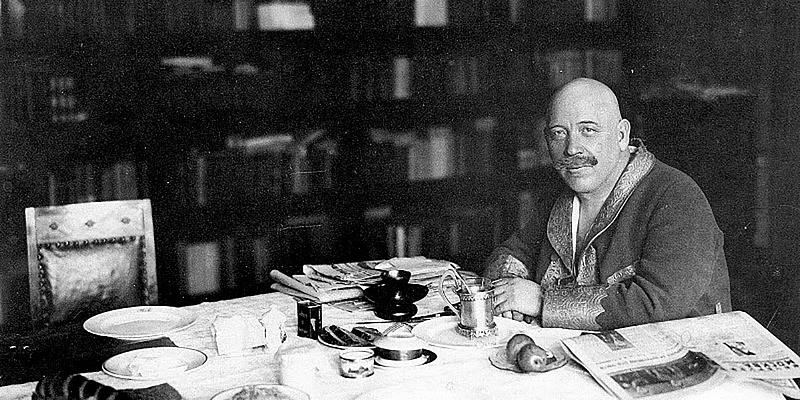


Сталин, Сталин, Сталин, Сталин.. Вы стихотворение можете разобрать нормально, как для школьника? Сколько можно сталиноёбить?!