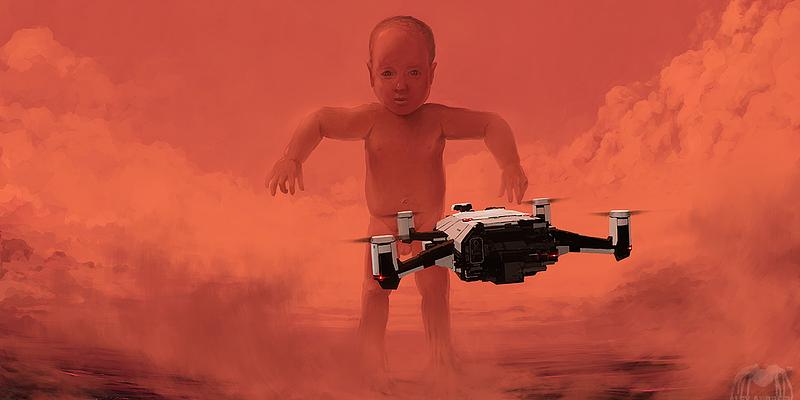Лем, конечно, писатель XXI века, в расчёте на который он и работал. Но корни его, безусловно, в XX веке, и мы в меру своих сил можем попытаться эти корни понять. Конечно, главное в Леме — это то, что он появился как результат Второй мировой войны. И не только как результат пережитой им личной катастрофы, когда мальчик из любящей и весьма состоятельной семьи пережил спасение по поддельным документам, гибель почти всех родственников, ужас фактически уничтоженной Польши, пережил всё это во Львове. Строго говоря, во Львове прошло его безоблачное детство. А что потом произошло со Львовом впоследствии, вы знаете: Львов оказался советским. Но в это время Лема там уже не было. И большая часть его дальнейшей жизни прошла в Кракове.
Лем оставил замечательные воспоминания о своём львовском счастье. Когда началась война, ему был 21 год, и он успел сформироваться как книжник с необычайно высоким IQ. Он никогда не избавился от шока, который ему случилось пережить во время Второй мировой. И все его попытки написать новую литературу, другую литературу, написать другое, альтернативное человечество, выдумать другую форму эволюции, как в «Формуле Лимфатера», конечно, с негодными средствами,— всё это попытки убежать от той истории, которая есть.
Он вспоминал в своей немецкой автобиографии «Моя жизнь» о своём детстве и говорил, что уже тогда он выдумал всю философию «Высокого замка», игру в «Высокий замок», игру в другую жизнь, в другую документацию, в другую антропологию — выдумал себя другого. Это была такая форма защиты. Но, безусловно, верно и то, что вся его последующая жизнь была попыткой отказаться от человеческого. Действительно, Лем — писатель зачеловеческий.
Удивительно здесь другое. Удивительно, что назвать его безэмоциональным язык бы, конечно, не повернулся. В этом смысле все попытки назвать его «Борхесом от фантастики», на мой взгляд, гроша не стоят, потому что главная эмоция у него с Борхесом абсолютно разная. Борхес — это всё-таки, как это ни странно, писатель радости. И на его фоне даже Честертон, о котором он замечательно говорил: «Честертон вовсе не фанатик, а невротик»,— даже Честертон трагичен и несчастен. А Борхес испытывает счастье, копаясь в своих книгах. А когда он слеп, кажется, что он счастлив оттого, что ему больше не видеть всей этой дряни, что он погружен в абсолютно герметичный мир. Идеал мира по Борхесу — это Вавилонская библиотека.
А что касается Лема, то основная эмоция Лема — это та тоска, тот страх, которым пронизано, например, «Расследование», поведение главного героя и все эмоции главного героя в этом романе; это трагическая, тоскливая, недоумённая душа Криса в «Солярисе»; это интонация скорби — скепсиса, но и скорби,— которая пронизывает позднего Лема, начиная с «Гласа Божьего».
Главная интенция Лема — это тоска и неустроенность; очень неспокойный, очень неприятный, очень неправильный мир. И не понятно, можно ли его спасти. Скорее всего, нельзя. Надо придумать ему альтернативу. Отсюда — постоянное желание нащупать какой-то внеморальный, внечеловеческий костяк мира. Отсюда — уверенность в непознаваемость мира и в невозможность контакта, которая, вероятно, ярче всего выражена в «Фиаско». Я бы сказал, что итоговый, последний роман Лема не просто так называется «Фиаско». Это та оценка, которую он выставил человечеству в целом.
У него есть прохладный академический юмор: «Звёздные дневники», «Сказки роботов», «Кибериада». Ведь это он придумал альтруизин, это замечательное вещество, которое позволяет окружающим испытать те же чувства, в том числе и физические, которые сейчас ощущают люди рядом с ними (и поэтому огромная толпа собирается возле дома новобрачных в первую брачную ночь). Вообще Лем выдумывает всегда такие довольно забавные пародии на христианскую мораль. Альтруизин: невозможно иначе заставить человека понять другого, кроме как заставив его физиологически пережить то же, что это другой переживает.
Но даже юмор Лема — это, в общем, юмор отчаяния. По большому счёту всё, что он написал — это разные попытки придумать что-то вне человека, как раз как-то выйти за человека. И может быть, именно поэтому одной из самых отчаянных попыток была идея, о которой меня, кстати, спрашивали в отдельном письме,— идея бетризации, которая так вдохновляет человечество в «Возвращении со звёзд». Помните, вернулся нормальный человек, а человечество живёт тихо, мирно, все добрые, потому что всем им сделана бетризация — подавления всех элементов агрессии. И всё, на этом закончилось развитие. И в результате, когда герой встречает женщину, которая ему понравилось, она не одна, но её спутнике даже не может её защитить. У него даже не возникает собственнического инстинкта. Ну, увели — и ладно. Забрали — и пожалуйста. К тому же этот всё равно здоровее.
Вот то, что будет с человечеством без агрессии, Лем понимал прекрасно. У него, кроме того, была замечательная пародийная антиутопия «Мир на Земле» — помните, о том, как всё оружие выделилось на Луну и там продолжало между собой воевать. И оно породило эту смертельную убийственную пыль, которая, попав на Землю, опять продолжала воевать, потому что человечество не может выделить из себя своё зло. Такая тоже вечная фантазия на тему доктора Джекила и мистера Хайда.
Главное для Лема — это, конечно, страшный, непознаваемый мир, окружающий нас, и иллюзорность наших попыток, этических попыток прежде всего, иллюзорность навязать миру тот или иной закон: христианский, этический, эстетический, какой угодно. Мир не принимает человека, мир отторгает его на всех этапах.
Более того, «Маска» — по-моему, самое удачное из малой прозы Лема — замечательно ставит вопрос о том, может ли программа сама перепрограммировать себя. И получается, что не может. Человек не может стать результатом собственного воздействия, потому что, даже если он попытается убежать от предназначения, это предназначение всегда его настигнет. Лем неоднократно признавался, что больше всего в жизни его занимает соотношение случайности и закономерности. И, в общем, он приходит к выводу (нигде внятно не прописанному, но чувствуется, слышится у него этот вывод), что всё-таки закономерность сильнее, что всё-таки мир организован по неким законам. Другое дело, что эти законы принципиально человеком не познаваемы, потому что — вот здесь внимание!— эти законы принципиально бесчеловечны.
Что же делает человек в мире, по концепции Лема? Он строит для себя такую спасительную камеру — отчасти тюремную, отчасти космическую, исследовательскую,— которая называется «культурой». Вот культура — это попытка продышать какую-то лакуну, какой-то тёплый воздушный пузырь в этом тотально ледяном и тотально нерациональном мире. Человек вообще в принципе, по Лему, алогичен.
И надо сказать, что одно из самых сильных и страшных объяснений лемовской философии содержится в «Гласе Божьем». Я просто прочту этот кусок, который когда-то меня потряс. Вот все говорят, что безэмоциональный Лем, холодный Лем. Посмотрите, какой страшный Лем на самом деле:
«Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; — это воспоминания Раппопорта, одного из участников проекта,— их расстреливали группами во дворе недавно разбомблённой тюрьмы, одно крыло которой ещё горело. Раппопорт описывал подробности этой операции очень спокойно. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, они не видели самой экзекуции — место казни загораживала полуразрушенная стена;
Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей,— но кричал он это по-еврейски (на идиш), видимо, не зная немецкого языка. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации; и тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания — ту самую, что позволяла ему смотреть на эту сцену с интеллектуальной дистанции,— вообще главное, что есть для Лема в мире — это интеллектуальная дистанция.— Однако для этого необходимо было — деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку «с той стороны», найти какую-то ценность вовне, какую-то опору для ума; а так как никакой опоры у него не было, он решил уверовать в перевоплощение, хотя бы на пятнадцать-двадцать минут — этого ему бы хватило. Но уверовать отвлечённо, абстрактно не получалось никак, и тогда он выбрал среди офицеров, стоявших поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом.
Это был бог войны — молодой, статный, высокий; серебряное шитьё его мундира словно бы поседело или подёрнулось пеплом от жара. Он был в полном боевом снаряжении. Экзекуция шла уже давно, с самого утра, пламя успело подобраться к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разило жарким смрадом горящих тел. Впрочем — и об этом не забыл Раппопорт,— сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руке офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, он перевоплотится в этого немца.
Он прекрасно сознавал, что это совершенный вздор. Но это как-то ему не мешало,— напротив, чем дольше и чем более жадно всматривался он в своего избранника, тем упорнее цеплялось его сознание за нелепую мысль; тот человек словно бы возвращал ему надежду, нёс ему помощь.
Хоть он и обращался к нам, мы не были для него людьми. Пусть даже мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся — он знал это твёрдо. И он ничего не смог бы нам объяснить, даже если бы очень того захотел».
Это гениальная метафора мира. Мир относится к людям (бога в лемовском мире нет), как этот немецкий офицер. Он прекрасен, он совершенен, и мир совершенен (посмотрите, какие пейзажи), но он не может говорить с человеком,— человек его не поймёт, у него принципиально другая этическая система. Это очень страшное прозрение. И мы надеемся после смерти перейти в этот мир, стать его частью. Это, конечно, наблюдение гениальное. И только во время такой войны можно вообразить себе этот принципиально расчеловеченный мир, когда увидеть квинтян, условно говоря, как в «Фиаско», можно только в момент гибели, в момент катастрофы. И Лем, наверное, допускает — но допускает, как Лагерквист в своей трилогии «Трудный миг»,— что в момент смерти мы всё поймём, мы увидим наконец себя со стороны, вне плена наших предрассудков, но поделиться этим ни с кем уже не успеем.
Мне больше всего нравится из Лема «Расследование» (странным образом не «Солярис», а именно «Śledztwo»), потому что это вещь, во-первых, самая страшная. Я бегло напомню её сюжет. Это детектив без развязки. В Англии дело происходит, в конце 50-х годов. Там в моргах неожиданно начинают двигаться трупы. Может быть, они не двигаются, а их кто-то перекладывает. Два обстоятельства сопутствуют этим явлениям: во-первых, всегда туман; во-вторых, всегда рядом с моргом обнаруживается какое-нибудь маленькое животное, щенок или котёнок. Вот такой абсолютно иррациональный, расчеловеченный сюжет.
Тут что важно? Важно, что Лем в принципе очень точно проник в природу жанра: чем дальше семантически между собой разнесены приметы кошмара, тем это страшнее. Когда на месте преступления находят пистолет — это не страшно. А вот когда на месте преступления находят плюшевого зайца — это страшно. И когда фигуры двигаются, одновременно возникает туман и одновременно маленький котёнок рядом — это очень страшно. И, кроме того, виновником произошедшего объявляется человек, который всего лишь вывел эти статистические закономерности, потому что для нас всегда в происходящем виновен тот, кто это происходящее первым познал.
«Расследование» представляется мне очень глубоким и умным, потому что это первый роман Лема, где доказана, где выведена в центр повествования принципиальная непознаваемость мира. Лем был уверен в том, что литература будет существовать не всегда. Он был уверен в том, что искусство конечно. Поэтому он и сам всё больше отходил от искусства (которое, кстати, удавалось ему блестяще) и всё больше переходил к публицистике.
«Сумма технологий» во всяком случае очень точно предсказала одну вещь — то, что человек развивается в сторону сращения с машиной. Машина эволюционирует, как мы знаем из «Мира на Земле», да и вообще из прочих его текстов. Они эволюционируют в сторону миниатюризации, а человек эволюционирует ко всё большему с ними сращению. Конечно, будет механическая или направленная, или автоэволюция. Это замечательная лемовская идея.
Вообще Лем, конечно, очень укоренён… И само название «Сумма технологий» — понятно, что оно восходит к Фоме Аквинскому и к «Сумме теологии». Кстати, это не единственный текст, который так назывался, их было много. Лем восходит, разумеется, к той религиозной католической прозе, к тем латинским трактатам, в которых пытаются заняться рациональным богопознанием, познать Бога. Лем так же упорно, так же рационально доказывает непознаваемость Бога, его отсутствие. Или точнее: «Это ведь для нас всё равно — есть он или нет. Это неважно, потому что мы всё равно не можем его познать».
Человек не может вырваться за пределы своего Я, маска мешает ему. Почему маска? Потому что мы всегда — та программа, которая обречена видеть и понимать только то, что она может. Она не может стать больше и шире. Человек недостаточен. Чувство острой недостаточности человека пронизывает всё, что Лем написал. И поэтому за его рациональными, почти трактатными сочинениями слышится такая горячая тоска, такая зубоскрежещущая печаль.
Но почему резко выделяется из всей этой сферы «Солярис»? Вот это мне кажется очень важным. Конечно, как мне представляется, в версии Андрея Тарковского, изобразительно прекрасной и даже целительной, роман несколько олобовел. Понимаете, там есть опять-таки ненавистная Лему попытка свести проблематику романа к христианской морали, а ведь «Солярис» не про то. «Солярис» весь в его последней фразе: «Я верил, что ещё не прошло время жестоких чудес».
По Лему, мир — жестокое чудо. Ведь и немецкий офицер у него прекрасен, сказочно красив. Просто он жесток, но он жесток потому, что ему человеческое в принципе не понятно, ему не понятны страдания этих жалких евреев, которые трясутся за свою жизнь, которые вообще непонятно кто для него. Есть абсолютная прекрасность, абсолютное чудо.
Кстати говоря, мы же не знаем, почему Солярис — этот бесконечно прекрасный и страшный океан слизи с его удивительными, безумно прекрасными формами, с его загадочными симметриадами, островами, с его кружевной пеной,— мы же не знаем, зачем Солярис подбрасывает эти копии, эти клоны людям на станции. Есть версия (и этой версии придерживается Тарковский, ему это надо), что это больная совесть мира, что он подбрасывает им тех, перед кем они виноваты. Но на самом деле он просто подбрасывает им тех, кого они любят. А именно перед теми, кого мы любим — перед ребёнком Бертона, перед Хари Криса — они больше всего и виноваты.
Кстати, в «Солярисе» тоже есть очень много страшных недоговорённостей. Я, например, до сих пор не знаю, каким образом Сарториус уничтожал эти фантомы с помощью соломенной шляпки. Помните, Agonia perpetua? Что он делал? Продлённая агония с помощью соломенной шляпы, этот жёлтый круг соломенной шляпы, который появляется в эпизоде. Лем — мастер таких гениальных и страшных недосказанностей. (Во что превратились вставные зубы Ондатра?)
Но при всём при этом Лем в «Солярисе» как раз довольно внятен. Это такая довольно понятная аллегория. Мир демонстрирует нам жестокие чудеса. Он и сам есть жестокое чудо. Жестокость заключается в том, что он принципиально неэтичен, и всякая этика, всякая попытка отыскать закономерности смешна. Но надо уметь наслаждаться, надо уметь любить то, что нам он даёт,— любить эти его пейзажи прекрасные и непостижимые. Потому что какая-нибудь речка, текущая по земле, если посмотреть на неё сторонним взглядом, она так же таинственна, глубока и непостижима, как и Солярис.
Мы живём в Солярисе, и Солярис нам подбрасывает эти творческие галлюцинации, в сущности стимулирует наше творчество. И мы не знаем, зачем он это делает: то ли он будит таким образом нашу совесть, то ли он пытается нам сделать приятное. Ведь Солярис подбросил Хари Крису именно для того, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было с кем спать, в конце концов. Он же не знает, зачем это. Может быть, это вообще гигантский безумный ребёнок, который так играет с людьми. Безусловно, «Солярис» с его ощущением прекрасного — да, страшного, но всё-таки гармонического чуда — у Лема довольно резко выделяется, потому что в остальном Лем всё время настаивает на принципиальной непознаваемости мира.
Отдельно, наверное, следовало бы сказать о «Рукописи, найденной в ванной», которая представляется мне таким кафкианским абсурдом, очень похожим по интонации, конечно, на «Понедельник начинается в субботу», на «Сказку о Тройке» и в особенности на «институтскую» часть «Улитки на склоне». Но вот что удивительно. Когда Лем описывает абсурд и безумие, он не так убедителен. Главная трагедия Лема — это трагедия рационального сознания перед прекрасной замкнутой непостижимостью мира. А шутки его — как раз это шутки довольно умственные, довольно головные, холодные.
И, конечно, всегда вспоминается мне фолкнеровская мысль: глупость человечества не просто выстоит, а она победит, она бессмертна. Помните «Дознание пилота Пиркса», когда Пирксу надо было любой ценой вычленить человека среди киборгов? И он его вычленил. Не потому, что поведение киборга было рациональное, не потому, что киборг не обладал фантазией (они и воображением могут обладать). Победила слабость, непоследовательность. Пиркс повёл себя непоследовательно, он отдал неправильную команду — и на этом, собственно, прокололся герой.
И поэтому мрачно-оптимистический вывод Лема заключается в том, что если и есть на свете что-то человеческое и что-то бессмертное, то это слабость, глупость и непоследовательность. Если вдуматься, то этот вывод тоже очень оптимистический.