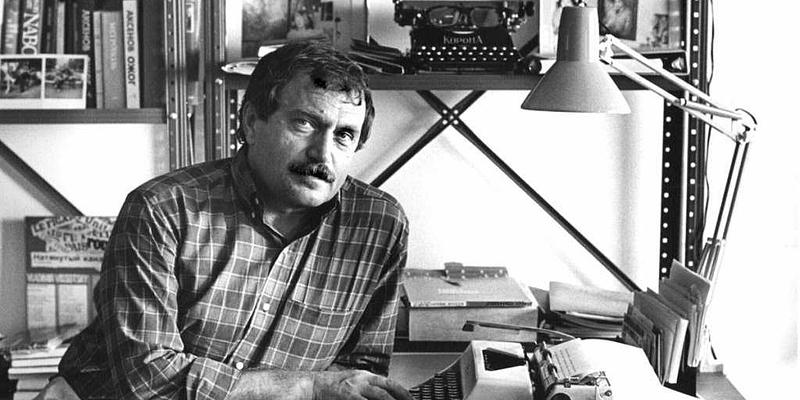Почитаем друга нашего Петра Андреевича. Я взял это стихотворение в онтологию «Телега жизни», потому что из всего написанного о старости, мне кажется, Вяземский и Кушнер, два поэта, подошли к ней по-настоящему глубоко. Потому что дожили и при этом не стали стариками. Не примирились. Кушнер объясняет, почему так много написано о старости: потому что старость — проблема, а лирика имеет дело с проблемой.
Эпиграф из Ивана Дмитриева: «Что выехал в Ростов».
«Такой-то умер». Что ж? Он жил да был — и умер.
Да, умер! Вот и всё. Всем жребий нам таков.
Из книги бытия один был вырван нумер,
И в книгу внесено, что «выехал в Ростов».
Мы все попутчики в Ростов. Один поране,
Другой — так попоздней, но всем ночлег один:
Есть подорожная у каждого в кармане,
И похороны всем — последствие крестин.
А после… — вот вопрос. Как знать, зачем пришли мы?
Зачем уходим мы? На всем лежит покров.
И думают себе земные пилигримы:
А что-то скажет нам загадочный Ростов?
Это гениальное стихотворение, но почему мне кажется важным его разобрать? Два аспекта очень важны для русской лирики в целом. Во-первых, в России пространство — синоним смерти. Переехать куда-то — это значит умереть. Отсюда такая высокая цена оседлости. Жизнь — это оседлость, смерть — это путешествие.
Неудовлетворенность жизнью, как всегда было у Гоголя, недостаточность жизни приводит к дромомании — мании дороги. Ведь и Гоголь, и его герои (Чичиков в частности) всё время странствуют. Оседлая жизнь, жизнь Коробочки, жизнь в коробочке очень страшна. А дорога — это такой образ бесприютного, сиротливого, но одухотворенного пространства. Чичиков не мертвая душа именно потому, что он причастен дороге. И смерть — это переезд.
Об этом, кстати, замечательная песня Вадима Егорова. Я тут, кстати, на авторском фестивале у Андрея Бора в Сиэтле, на фестивале авторской песни немножко выступал, и мы эту песню Егорова большим бардовским составом спели. Помните, что и смерть — это переезд, но только Богу известно, где новая прописка.
Оседлость в России — очень важная добродетель, а переезд — это прорыв. Поэтому в XX веке в Советской России все ездили. Страна сорвалась с места и понеслась. Мне всегда была очень близка идея строительства дома, но сейчас, когда всё уже так закоснело, идея переездов, разъездов, выездов в Ростов мне очень близка.
Вот это первая метафизическая особенность русского ума — понимание дороги как смерти. Потому что дорога — она всегда куда-то. Даже если она в никуда, само состояние дороги лучше состояния оседлости. И вторая тоже очень важная вещь. Понимаете, в России отношение к смерти легкое. Оно гораздо легче, чем в таких культурах, как, например, британская, или французская, или немецкая. Оно немножко цыганское. Отсюда колоссальная близость цыганской песни русской душе. Смерть — это, во-первых, не страшно, потому что жизнь такая. И неслучайно Кушнер, тоже значимый поэт старости, написал: «Если жизнь нам понравилась, смерть нам понравится тоже». Или:
Нет ли Бога, есть ли Он — узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, за краем.
Нас устроят оба варианта.
Или его же:
Я, знаешь ли, двух жизней не хочу.
Хватает мне той жизни, что была.
Вот это отношение к жизни как к чему-то, что легко потерять — оно есть и в этом стихотворении Вяземского. «Из книги бытия один был вырван нумер» — легкое отношение к жизни и смерти. С чем это связано? Отчасти с таким анакреонтическим гедонизмом: жизнь надо пропить, прогулять, просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом. Потому что все занятия как-то слишком легко отнимаются, и вообще жизнь в России очень хрупка. Поэтому такой взгляд на жизнь — такой немножко омар-хайямовский: пей, пока можно. Самое мое любимое русское четверостишие:
Выпьем там и выпьем тут —
На том свете не дадут.
Ну а если там дадут,
Выпьем там и выпьем тут.
Это прекрасно. И алкоголь, как говорил Черчилль, такой смачный вариант для трения о жизнь. И вообще в России без этого допинга очень трудно. Неважно, как провести жизнь — важно легко относиться к ее исчезновению. Сказал же Шойгу, что русский спасатель самый рисковый. Это, конечно, не потому, что ему нечего терять, а потому, что между жизнью и смертью в русском понимании нет особенной разницы. И вот Вяземскому это будет очень понятно. Отсюда амбивалентность его отношения к старости:
Жизнь наша в старости — заношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить
Это риторически очень убедительно. Дело в том, что вот это сложное «и бросить бы, да жалко» — то, что у Тарковского:
И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту.
Но, по большому счету, не так уж и жалко, не так уж и страшно. Действительно, жизнь похожа на смерть в России. И чем дальше, чем больше развивается страна, тем больше исчезает из жизни вещей, которые делают ее привлекательной. Грех себя цитировать, но:
Ты, конечно, ужасною делаешь жизнь мою,
Но нестрашною делаешь смерть мою.
Вот это ощущение легкости, фатальности, обреченности, потому что ко всем придут, и при этом какого-то пофигизма — перемигнуться перед смертью, «выехал в Ростов» — это очень по-русски. Конечно, это приводит к ужасным последствиям, потому что когда своей жизнью не дорожишь, чужой тоже не особенно. Как у Самойлова: «Когда себя не пожалели, планету нечего жалеть». Но при этом всё-таки какой-то высокий героизм в этом есть: не цепляться. Не цепляться за жизнь.
Вяземский в старости, которой одновременно и тяготился, и стыдился того, что он остался один, и вместе с тем благодарил за то, что ему дана эта возможность — он и воплощает лучше всего тему жизни и смерти в русской поэзии. А особенно мне нравится у него, помните, то, из чего Андрей Петров сделал такой гениальный романс для «Бедного гусара»:
Мой горизонт и сумрачен, и близок…
Любимых дум моих полет стал низок.
Но ведь это же цыганский романс. И нельзя отрицать того, что «и выехал в Ростов» — это так риторически привлекательно! Хочется вслух произносить — насыщенная, живая, старческая веселая речь, такая циничная, с подмигиванием. Вот такое отношение к жизни и смерти в России выработано. Это, может быть, самое ценное, что в русском социуме есть. А пока, в общем, будем жить, потому что увидим еще много интересного.