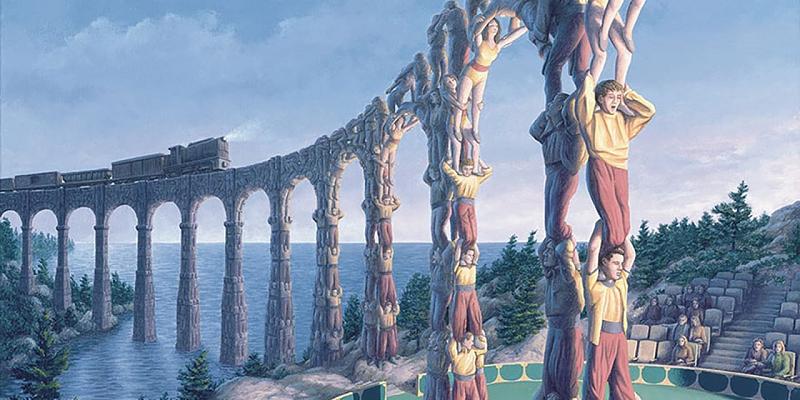Первая часть этих записок увидела еще при ее жизни, вторая — посмертно, в довольно полном томе издания записных книжек. Научная проза Гинзбург отличается феноменологическим подходом к человеку, подходом безоценочным. Гинзбург не восхищается и не ужасается, она спокойно, с ледяным спокойствием описывает ту эволюцию, которая возникает в соображении блокадного человека. Во-первых, блокадный человек лишен пола. Надо сказать, что протагонист повествования Гинзбург всегда был мужчиной, она не воспринимала себя как женщину. Это не гендерная идентичность, а просто это такой «повествователь», это слово мужского рода, свидетель, созерцатель. А, может быть, гендерная идентичность ей потому не важна, что с женщиной традиционно связывается если не слабость, то, по крайней мере, большая чувствительность, а Гинзбург этой чувствительности за собой не знала или подавляла ее в себе.
Поэтому во-первых, блокадный человек лишен пола, он лишен всех проявлений пола. Секса нет, к женщинам никакого снисхождения, на фронте все, потому что каждый так или иначе бьется за жизнь. Гинзбург опровергает мысль о том, что в блокаду не читали. Многие говорят, что в блокаду — Водолазкин, например, со слов Лихачева — не могли читать прозы и читали только стихи, это спасало. Гинзбург наоборот настаивает, что читали «Войну и мир», находя в Толстом источник силы, источник духа. И приводит замечательную мысль: те, кто переставал читать; те, кто сжег все книги, были более уязвимы и чаще умирали. Тот, кто сохранял интерес к каким-то абстрактным вещам вне еды, тот выживал. Вот это судьба ею предсказанная, ею описанная; то, о чем впоследствии писал Виктор Франкл: человек, у которого есть смысл жить, живет. Человек, который свелся к физиологической потребности, исчезает. Для Гинзбург очень важно, что еда стала процессом интимным, нельзя поесть на людях, нельзя поесть публично. Вот она это наблюдает холодно, потому что человек болезненно внимателен к тому, что едят другие.
Стыд утрачен, утрачиваются проявления. Но она права абсолютно в том, что первые обреченные забывают о личной гигиене. Вот тот, кто перестает даже не просто мыться, а тот, кто перестает наводить элементарный порядок в квартире, подметать выбитые стекла,— это тоже первый шаг к гибели. И конечно, блокадный человек — это человек страшно редуцированный. Она все время подчеркивает, что мало чувств, мало эмоций; человек не может тратить физические силы на воспоминания. Он живет страшно узкой жизнью, рацион сместился, он исчез практически. Поэтому мысль Гинзбург в том, что главное — не допустить сужения мысли, главное — продолжать позволять себе в отсутствие тактильных ощущений, в отсутствие любви, продолжать позволять себе живую память. Тот, кто наделен творческим воображением, имеет шанс выживать.
Проза Гинзбург, вот эта безэмоциональная, холодная, оценочно-феноменологическая, проложила дорогу к будущему нон-фикшну. Потому что проза будущего — это именно сочетание психологии, социологического, социального анализа и художественной фабулы. Герой, блокадный человек N — это человек без возраста, без пола, без привычек, без профессии. Профессия умирает последней, потому что это самая стойкая внутренняя структура. Но это человек и без профессии тоже. Поэтому для Гинзбург единственный способ в отсутствии любого разнообразия жизни как-то выживать — это сохранять попытки внутреннего богатства, попытки неортодоксального мышления. Кстати говоря, интереснее всего Гинзбург те, кто в эти годы преодолевает советский догматизм. Потому что становится очевидно: как нельзя выжить на блокадном пайке, так нельзя выжить на советском идеологическом пайке. Можно выжить на философии.
И конечно, в сегодняшнем мире «Записки блокадного человека» имеют прямой смысл, потому что в отсутствие привычного образа жизни живет тот, кто способен хотя бы интеллектуально возводить какие-то конструкции, какие-то замки для собственной жизни, какие-то пейзажи.