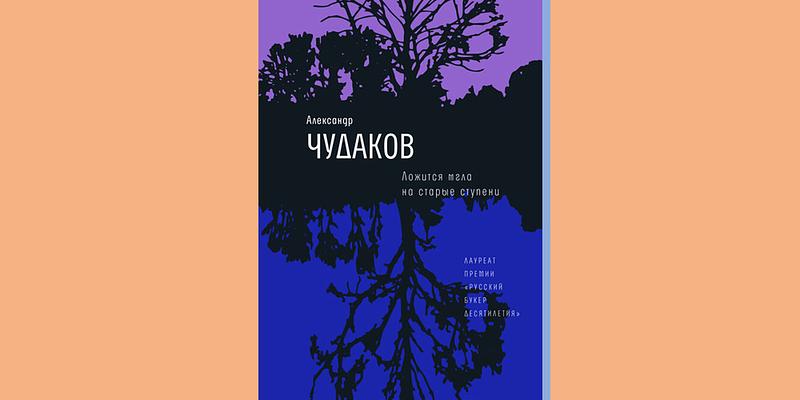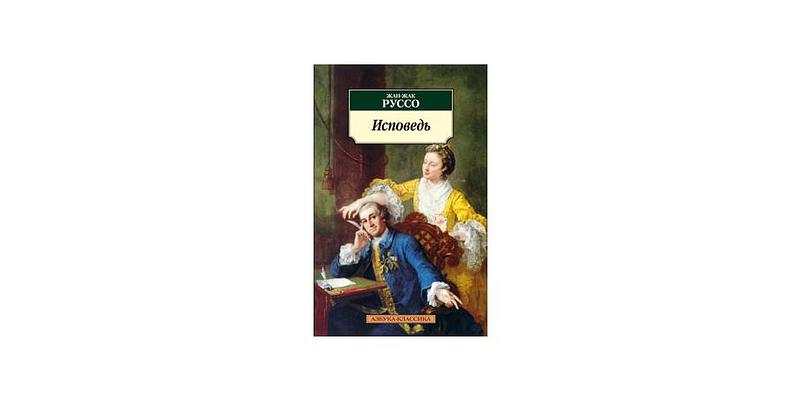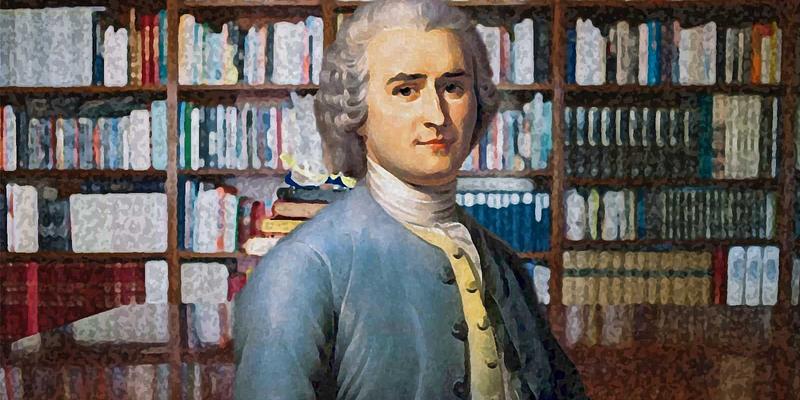Руссо повлиял в огромной степени, потому что вообще европейская литература, в частности Пруст, опирается на два главных текста — на «Исповедь» Блаженного Августина и «Исповедь» Руссо. Весь роман воспитания пошел от этих двух очень радикальных текстов — радикальных прежде всего по совершенно новой интонации разговора с Абсолютом, разговора с Богом, который есть у Августина, и по совершенно новой степени откровенности, которая есть у Руссо.
Я не могу сказать, что Руссо — приятный человек. И я не могу сказать, что его книга приятная. Я не думаю, что и Толстой был приятным человеком — ну, во всяком случае, лет до шестидесяти, пока его тщеславие не было окончательно удовлетворено, и он уже не мог себе позволить быть просто человеком. Но, конечно, «Исповедь» Толстого не просто реферирует к «Исповедям» Руссо и Августина, но во многом претендует быть третьей в этом ряду. Художественно, как ни странно, она недотягивает до «Исповеди» Руссо, потому что все о себе сказать с такой откровенностью Толстой не мог. Его «Исповедь» имеет характер не исповедальный, а пропагандистский, рискнул бы я сказать, поэтому её читать не так интересно. Но как агитационное произведение, как использование своей биографии ради действительно обращения в свою веру она — выдающийся пример, мне кажется, гораздо исповедальнее статьи Толстого «Что такое искусство?», потому что жил он, понимаете, все-таки искусством. И он был писателем настолько par excellence, что решал и в «Исповеди» главным образом художественные задачи.
Ну а как это соотносится с его педагогическими взглядами, с «Азбукой»? Совершенно определенным образом. Мы об этом много раз говорили. Он пытался таким образом нащупать новую стилистику, голую, не конвенциональную прозу, лишенную приема, построенную целиком на обнажении этого приема, на пафосе прямого высказывания. Это довольно перспективная штука. И из этого получились действительно… и «Фальшивый купон» из этого получился, и «Отец Сергий» во многих отношениях, и уж конечно, «Божеское и человеческое», гениальный рассказ, и «Хозяин и работник». И ровно так же написаны и последние статьи, тоже великие художественные тексты. Что, «Не могу молчать» — это плохо, что ли? Поэтому я думаю, что поиски Толстым вот этой новой голой прозы потребовали императивно пересмотра его взглядов, вот и все. Отказавшись от конвенций художественных, он отказался постепенно и от конвенций общественных, религиозных, социальных, как хотите.