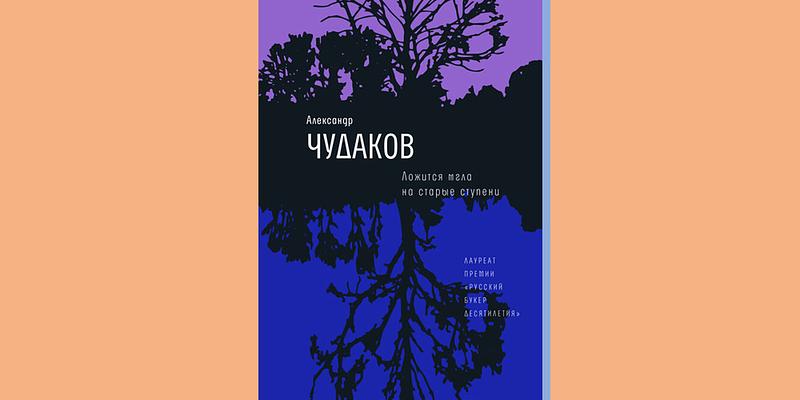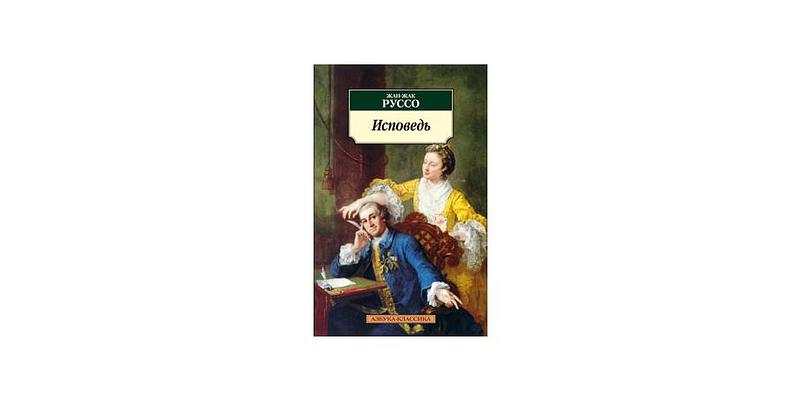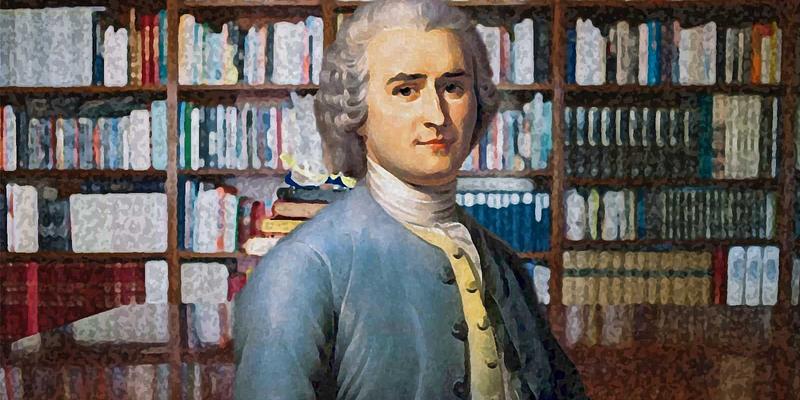Вы правы в том, что слушать пересказы чужих снов — ужасно скучно. Ужасно интересно слушать чужие любовные истории и ужасно скучно слушать чужие сны. Потому что сон — это свидетельство внутреннее, только ваше. Вот Гор Вербински говорил: «Кошмар нельзя присвоить, это как отпечаток пальца». Да, действительно. Но читать чужую автобиографию интересно, наверное, потому, что интересны чужие механизмы самооправдания. Ведь человеку зачем-то дана совесть, ему зачем-то дано просыпаться по ночам от жгучего чувства самоненависти, мучительно перебирать свои проблемы, свои грехи, вспоминать свои ошибки,— это бывает со всеми. Это универсальная человеческая черта, такая же профессиональная болезнь человека, как насморк, как смерть. Это надо пережить. Зачем это человеку? Чтобы не повторять ошибок — не думаю. Я думаю, что просто терзаться совестью — это какая-то его важная особенность, издержка нравственного компаса.
Нравственный компас вложен в нас для того, чтобы мы были союзниками бога, его помощниками. Чтобы мы участвовали в своеобразном Дне Восьмом, чтобы мы были пальцами его руки. Мы — участники творения, а не зрители его, не наблюдатели. Нам надо помогать богу. И вот для того, чтобы мы ему помогали, у нас есть нравственный компас. Но, понимаете, это такие же издержки, как вот человеку копать дана лопата, но иногда он этой лопатой лупит ближнего по голове. Вот вам дан нравственный компас, но вместо того, чтобы делать добро, вы используете его для самомучительства. Поэтому, может быть, автобиографический роман — это издержки этого самомучительства, издержки больной совести. Потому что совесть — это единственный данный человеку инструмент самопознания. Сразу хочу сказать, что к познанию мира это не имеет никакого отношения. И неинтересны те автобиографии, в который автор описывает свои странствия, свои знакомства с интересными людьми,— это даже у Гурджиева неинтересно. А у Всеволода Иванова в «Похождениях факира» или в «Мы идем в Индию» — совсем неинтересно. Интересно то, что происходит у человека внутри. В этом смысле Пруст интереснее, скажем, Горького,— прости господи. Но и у Пруста, мне кажется, копание в мелочах носит характер навязчивый. А вот интересно это у Руссо. Почему?
Потому что Руссо постоянно вскрывает скальпелем своей прозы те моменты, когда он врет. Он пытается договориться до абсолютной честности. И надо вам сказать, что можно там любить, не любить Руссо… Когда-то Тургенев сказал, что Толстой — он как Руссо: человек очень честный и очень неприятный. Руссо — неприятный, про него неприятно читать, и, наверное, в жизни он был невыносимым. Кстати, у Фейхтвангера в «Мудрости чудака» есть тоже это ощущение, что, когда он уходил, все испытывали облегчение. Но вот есть эта невероятная честность в разговоре с собой, которая делает эту прозу великой. Человека — невыносимым, а прозу — великой.
Отдельный случай — «Былое и думы» Герцена. Вот это такая удивительная попытка… Знаете, вот до той честности, которая была у Руссо, он не дописал. Он все-таки публицист и позер даже здесь, ему хватало смелости признаться дочери: «Жизнь нам не удалась, а пропаганда удалась, потому что мы пропагандой занимались больше, чем жизнью», но до полной честности он не дописался. Это все равно довольно кокетливая книга. её преимущество в другом. Преимущество её в том, что там он с необычайной полнотой описал свои идеальные представления о себе. До настоящего Герцена, которого мы видим на портрете Ге, это, я думаю, очень далеко. Потому что в нем было много и барства, и самодурства, и широконосости определенной, какой-то грубоватой, да даже вульгарности. Но идеальное представление о себе у него было, и он ему следовал. То, что Руссо назвал бы ложью или лицемерием, для него было стимулом таким. Он хотел казаться хорошим, и поэтому иногда был хорошим. Отсюда мораль: пишите автобиографические романы, это поможет и вам, и читателю.