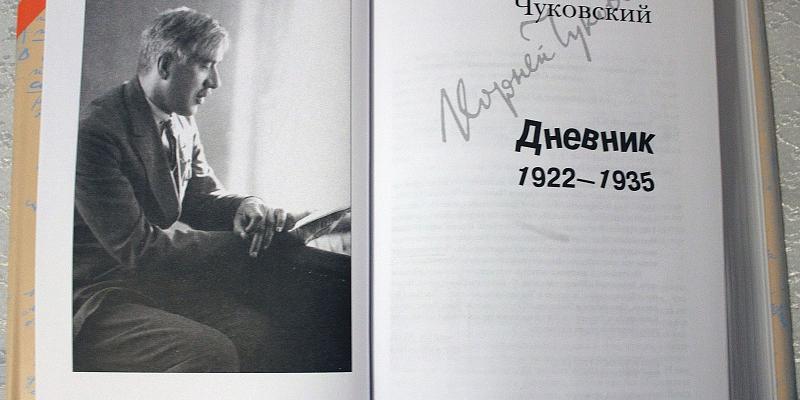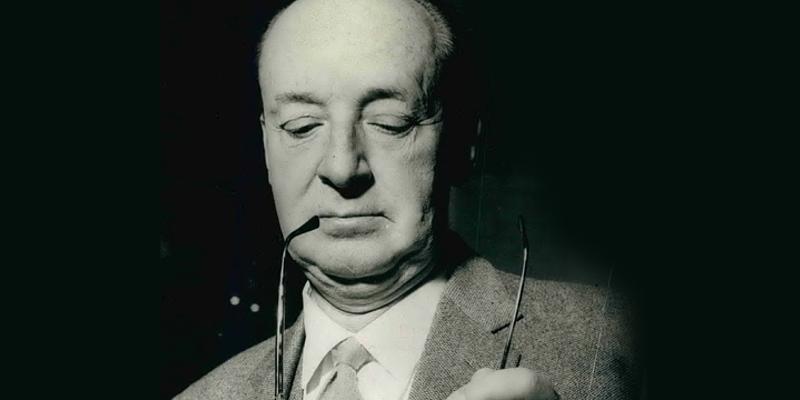Я об «Аде» довольно много всего думаю. Я не считаю «Аду» лучшим набоковским романом, но люблю ее чрезвычайно. Мне кажется, что «Ада» — это история о том, что бывает с любовью, лишенной всех препятствий, поставленной в идеальные условия. Любовью, которая является самоцелью. И она вырождается, ничего не поделаешь. И «шлюшка Ада» — это авторское определение мне кажется близким. Мне кажется, это тот же самый ужасный демон, который и в Лилит, и в Лолите, и в Мариэтте с Кругом в «Bend Sinister», и в Лауре из «Лаура и ее оригинал». Мне кажется, что с этим демоном он боролся всю жизнь. Да и Ван Вин, в общем, представляется мне довольно неприятным персонажем. Мне кажется, что сцена в лупанарии — автоописание пышного и блистательного вырождения. Но при этом, Аду, вот этого книжного умного ребенка, вот этого 16-летнего ребенка, от которого, помните, пахнет мышечной порослью, нельзя не любить. Она не может не быть сексуальной грезой читателя. При этом у меня есть довольно сложное отношение к Люсетте, которая вроде бы такой ангел, но все-таки очарование Ады — это очарование гибели, очарование соблазна. И все попытки Вана Вина в своей «Текстуре времени» софистикой и демагогией преодолеть время, ни к чему не ведут. Все-таки единственная одухотворенная, счастливая любовь Набокова — это любовь к Зине Мерц, и неслучайно, может быть, во втором томе «Дара» она должна была погибнуть. Или любовь Синеусова к жене в «Ultima Thule» — недописанном гениальном романе, главном, по-моему, романе Набокова. А Ада — это все-таки демон, и неслучайно Демон там один из главных персонажей. И неслучайно любовь Вана Вина и Ады изначально греховна.
Это очередная глубоко моральная набоковская история о гибельности греха и о демагогии грешника, который пытается этот грех какими-то образом позолотить. В любом случае, на Аде лежит некоторый закатный отблеск (как в этой сцене в разрушающемся лупанарии) позднего Рима. Притом, что некоторые эпизоды (в частности, первая ночь Вана и Ады во время пожара; его возвращение, когда ей 16 и он видит всех ее любовников и сознает это все; и их волшебные уединения на этом островке, острове любви) написаны волшебно, и Аду нельзя не возжелать; эту Аду, которая палец ноги умудряется дотянуть до рта; эту прелестную, гибкую, черноволосую, с дырочкой в купальнике, развратную, доступную, гордую, прелестную Аду — ее нельзя не любить, но нельзя вместе с тем и не ужасаться. Поэтому мне кажется все-таки, что «Ада» — это все-таки адское произведение, произведение о страсти как о самом тяжком соблазне, который и Гумберта ведет в тюрьму, и Цинцинната ведет в тюрьму.
Почему он это написал? Вероятно, потому что желал этого демона заклясть каким-то образом. И одновременно желал показать, что идеальная любовь, не одухотворенная ничем, есть все-таки духовная дряблость и вырождение. И сексуальная неутомимость — это какое-то странное отражение, что ли, бесконечной усталости культуры.
Нет, вот тут приходит возражение. Что Ван и Ада как раз персонификация бессмертной любви. Кому-то они нравятся. А мне эти два существа активно неприятны. Притом у Набокова всегда, заметьте, волосатая грудь, поросль на груди, как это было у Вана, как это было у Горна в «Камере обскуре», и сексуальная неутомимость, которая была у Магды Петерс,— это, как правило, маркирует какую-то животную и малоприятную сущность. Это, кстати, намекает мне и на то, что Годунов-Чердынцев по сравнению с Чернышевским автору не больно нравится. Во всяком случае, ключей от счастья он так и не получает, потому что ему не достаются ключи. Мне кажется, это важный символ, и во втором томе «Дара», который остался ненаписанным, мне кажется то, что приходит он к катастрофе и теряет Зину,— это очевидно.