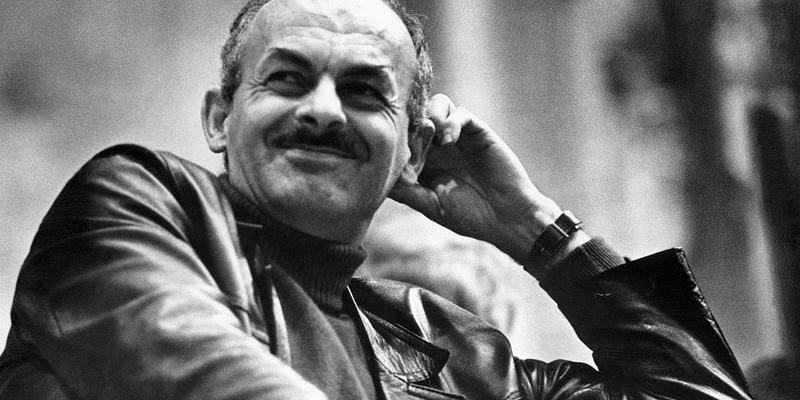Окуджава сам несколько раз пытался это объяснить. В принципе, он как бы построен по тому же принципу, что «Часики». Жизнь проходит, часики тикают, шарик летит. То есть, грубо говоря, жизнь идет своим ходом, не особенно оглядываясь на человека. Можно это понять как сочинение о том, что смысл жизни обретается только к старости. А можно понять это как пронзительную картину женской судьбы: «Плачет старуха, женщина плачет, девочка плачет». А на самом деле, как говорил Ильин, читая детям Блока: «Блок — это когда непонятно, но хорошо». Непонятно, но здорово. Ильин — это был замечательный такой учитель-новатор в семидесятые годы в Питере.
У меня есть ощущение, что истолковывать песни Окуджавы, как и некоторые стихи Блока,— это довольно безнадежное занятие, потому что они не рассчитаны на расшифровку. Они рассчитаны на передачу состояния. Это то, о чем замечательно сказал Давид Самойлов: «Слово Окуджавы неточно. Точно его состояние». То, о чем сказал Николай Богомолов, замечательный исследователь творчества Окуджавы: «Окуджава размывает слово. Смысл его произведений мерцает». Это такая антиакмеистическая традиция, вполне трогательная.