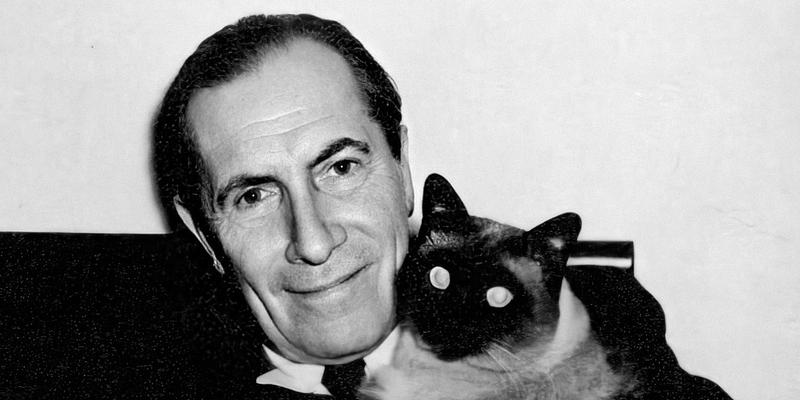Константин Вагинов, представляется мне, наверное, самым ярким явлением в русской прозе начала тридцатых годов.
Надо сразу помнить о том, что Вагинов начинал как поэт. И более того — его считал очень серьезным поэтом Мандельштам. И думаю, что на фоне тогдашней поэзии, молодой ленинградской, в особенности, скажем, Тихонова, который тоже начинал со стихов довольно приличных, в особенности вот этого всего кружка «Серапионовых братьев», где тоже большинство писало стихи и ими интересовалось,— мне кажется, на этом фоне Вагинов все равно отличается.
Отличается собственно чем? Мне кажется, что Вагинов — это, знаете, как Четырнадцатая симфония Шостаковича, когда идет какая-нибудь классическая тема, иногда даже идиллическая, совершенно пасторальная, а в конце вдруг раздается громовой хохот, как бы измывающийся над ней, такой хохот смерти. Там есть несколько таких кусков.
Мне кажется, что Вагинов, действительно, он пользуется словарем поэзии даже XVIII, а не только XIX века, аркадских идиллий каких-то, но вдруг все это хвачено морозом начала двадцатых годов. И весь сборник «Опыты соединения слов посредством ритма» — он как раз трагическая история того времени, в котором уже ничего, кроме как посредством ритма, соединить нельзя; хроники языкового распада.
В пернатых облаках все те же струны славы,
Амуров рой. Но пот холодных глаз,
И пальцы помнят землю, смех и травы,
И серп зеленый у брегов дубрав.
Вот рифма ему претит. Подобрать рифму ему было бы нетрудно, но она ему не нужна.
Умолкнул гул, повеяло прохладой,
Темнее ночи и желтей вина
Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.
А почему остановил? А потому что дальше не пускает. Потому что мир этот уже недосягаем и приплыть туда нельзя.
В повышенном горе
На крышах природы
Ведут музыканты
Свои хороводы.
Внизу обезьяны,
Ритма не слыша,
Пляшут и вьются
Томно и скушно.
И те же движенья,
И те же сомненья,
Как будто, как будто!
По градам и весям
Они завывают,
И нежно и сладко
Себя уважают.
Вот «и нежно и сладко себя уважают» — здесь весь лексический слом позднего Вагинова (это стихи тридцать первого года).
Конечно, Вагинов нежнее и в каком-то смысле тоньше Заболоцкого. В Манифесте обэриутов сказано, что Заболоцкий приближает предмет прямо к глазам так, что предмет размывается. Но Вагинов другой — Вагинов деликатнее гораздо. И я помню, с Аней Герасимовой (она же Умка) у нас был когда-то один из первых разговоров именно о Вагинове. И она сказала, что Вагинов был ласковый, Вагинов был добрый. В нем при всей его насмешливости, едкости присутствовала огромная деликатность, и она в его поэзии очень чувствуется.
Вагинов появляется у меня… Его настоящая фамилия была Вагенгейм. Он взял себе такую русскую фамилию. Отец его был, по-моему, полицмейстер, ну, какой-то судейский. Он взял себе русскую фамилию, от «гейма» открестился. Ну, просто потому, что, наверное… Ну, не было, естественно, никакого желания соответствовать эпохе. Может быть, и отец его так поступил ещё в четырнадцатом году, не помню. Но знаю точно совершенно, что Вагинов — Вагенгейм. А у меня действует Альтер, Альтергейм в «Орфографии» и особенно в «Остромове». Вот для меня в Вагинове, во всяком случае когда я пытался его там изобразить, самое главное — это удивительное сочетание обреченности, сентиментальности и цинизма. Вот это в нем очень сильно.
Вспоминал кто-то из серапионов, как однажды на собрании «Звучащей раковины», куда привели мать Блока (это уже после смерти Гумилева, они собрались где-то году в двадцать втором), он читал поэму об онанизме. И все переглядывались в ужасе, а он продолжал шпарить этот свой лирический шедевр. В нем действительно какой-то цинизм, какой-то вызов, бесовщинка — это чувствовалось. И особенно остро это чувствуется в его гениальном, на мой взгляд, романе «Козлиная песнь», в котором как раз и показано умирание волшебных людей начала двадцатых годов.
Чем эти люди были волшебные? И что это было за дивное время и дивное поколение, к которому Вагинов принадлежал? Видите ли, вот в «Повести о Сонечке»… Как бы московский извод этого дела. Они немножко более карнавальные, более жовиальные. Но не случайно Цветаева так часто цитирует в «Повести о Сонечке» петербургские, достоевские, романтические белые ночи. Это все-таки явление петербургское, несмотря на весь московский довольно-таки плотский карнавал, который они там водят в вахтанговской студии.
Вот Вагинов, Нина Берберова, Коля Чуковский — они принадлежали к тому поколению, которому в семнадцатом году было двенадцать, пятнадцать, максимум семнадцать лет. Это люди, у которых действительно из-под ног вышибли почву, которые любят только стихи, которые описаны у Блока в фельетоне «Русские дэнди». Но надо сказать, что этот фельетон отнюдь не такой издевательский и не такой провокативный, как кажется. Там Стенич, конечно, главный герой. Но Стенич не просто мистифицировал Блока, рассказывая об этом поколении, а он довольно точно их описал: «Вот мы любим только стихи, мы опьяняемся только стихами». Ну, я добавил ещё, что кокаином.
К этому же поколению принадлежал замечательный поэт парижской школы Борис Поплавский, чья проза кажется мне выше стихов, хотя… Ну, «Аполлон Безобразов», конечно, в первую очередь. Но и «Домой с небес» — замечательная литература. Конечно, Набоков недооценил в свое время Поплавского, потому что находился в литературных таких полемических контрах с его кружком, прежде всего с Гиппиус, с Ивановым и так далее, и с журналом «Числа». Но, конечно, потом он, я думаю, именно Поплавского изобразил в Кончееве. «Виноград поспевал, изваянья в аллеях синели. Небеса опускались на снежные плечи отчизны…» — это стилизация под «Флаги», совершенно отчетливая. И мне кажется, что Поплавский — это такой парижский вариант Вагинова.
Это люди, которые действительно детьми пережили великий катаклизм, и этот катаклизм на всю жизнь их научил, как сказал Ходасевич, «Раз: победителей не славить. Два: побежденных не жалеть». Это довольно жестокая на самом деле фраза и в некотором смысле, я считаю, дурновкусная, потому что — ну почему же побежденных-то не жалеть? Но это входило в кодекс чести человека, на глазах которого рухнул мир. Вот такой действительно холод кокаина, холод ночного, безлюдного, с зеленым небом, пустынного Петербурга, в котором среди ледяного пространства стынут статуи Летнего сада, стынет такая обнаженная и беззащитная античность,— это и есть атмосфера Вагинова.
Атмосфера «Козлиной песни» — это тоже ощущение страшного слома времен и душевной болезни, которая проникает во всех, особенно, конечно, в неизвестного поэта. Там очень много цинизма всякого. И действительно, помните, там про одного говорят, что он с матушкой живет. И сначала думаешь: глупость, бред. А потом вглядываешься — действительно, как-то они уж очень зацепляются языками, когда целуются. Это такой детский цинизм немножко.
Потому что надо сказать, что в жизни этого поколения особых пуританских ограничений-то не было. Они довольно рано начинали погружаться в такую… ну, в ту же самую карнавальную неразбериху, которая окружала их постоянно. Для них вообще секс был делом довольно будничным. И мне кажется, что и для Вагинова большинство вещей, которые окружены были романтическим флером, они вдруг предстают в такой ужасной наготе.
Кстати говоря, мне кажется, что он довольно значительно повлиял если уж на кого, то на раннюю Татьяну Толстую, у которой тоже было вот это ощущение очаровательно-прелестного рухнувшего мира (ну, тогда уже советского, конечно).
Прекрасен, как ворон, стою в вышине,
Выпуклы архаически очи.
Вот ветку прибило, вот труп принесло.
И снова тина и камни.
И, важно ступая, спускаюсь со скал
И в очи свой клюв погружаю.
И чудится мне, что я пью ясный сок,
Что бабочкой переливаюсь.
Вот это ощущение себя вороном над трупом мертвого мира, который когда-то, в общем, был так прекрасен,— это очень вагиновское.
Я думаю, что самое удачное из его последних сочинений — это «Гарпагониана». Ну, три романа там, да? «Козлиная песнь», «Бамбочада», «Труды и дни Свистонова». А вот «Гарпагониана» осталась незаконченной. Последний роман, но он мне кажется самым занятным, потому что в нем вот это же сочетание умиления и брезгливости, которые у Вагинова разлиты везде. Я думаю, что у Вагинова был довольно любопытный аналог — замечательный украинский поэт Игорь Юрков, который так же сюрреалистичен, тоже ощущение какой-то ледяной хрупкости, насмешки и смерти, присутствующее постоянно. Игорь Юрков, правда, гораздо более музыкален. Вагинов — все-таки он такой сознательный разрушитель мелоса.
Возвращаясь к «Гарпагониане», где сочетание умиления и брезгливости особенно сильное. Это роман о жизни петербургских коллекционеров-собирателей. И вообще Вагинов писал о жизни лишних людей, которым не осталось места и которые выживают в каких-то нишах, выгрызают себе эти ниши и там спасаются. Мне кажется, что в «Гарпагониане» особенно остро это ощущение человека, который собирает любую ерунду, потому что жизнь утекает между пальцев, потому что вещества жизни не остается, поэтому он собирает обрезки ногтей, какие-то… Ну, вот как в музее одного замечательного петербургского собирателя, немца Фидлера, который собирал, я не знаю, комок земли с могилы Мамина-Сибиряка, сигарету, не докуренную Леонидом Андреевым, я не знаю, какую-то ватку, приложенную к синяку Куприна, и так далее. Вот это такое же оголтелое собирательство. Ну, Фидлер, понятно, что он умер перед революцией, и весь его музей погиб. Дочь не могла его сохранить, и все это исчезло. Но он же был фанатиком этого дела, он мог об этом писать и говорить часами.
И вот Вагинов, изображая своих собирателей, своих скупцов, которые пытаются от жизни сохранить хоть что-то, он, с одной стороны, конечно, издевается и брезгует, а с другой — он бесконечно жалеет, бесконечно сострадает. И у него вот это ощущение хрупкого мира, оно особенно, кстати, в «Трудах и днях Свистонова», где в финале романа автор целиком переходит в свое произведение — такая мечта укрыться хотя бы в нем. Но вот интонационно, наверное, как раз самое откровенное стихотворение Вагинова — это «Голос». Оно так и называется — «Голос».
Столица глядела
Развалиной.
Гражданская война летела
Волной.
И Нэп сошел и развалился
В Гостином пестрою дугой.
Чувствуете, как этот хаос начинает постепенно оформляться в такие капустные ямбы, а-ля Заболоцкий?
Самодовольными шарами
Шли пары толстые.
И бриллиантами качали
В ушах.
И заедали анекдотом
И запивали опереттой
Борьбу.
В стекло прозрачное одеты,
Огни мерцали.
Растраты, взятки и кино
Неслись, играя в домино.
Это Заболоцкий чистый совершенно. Но главное — посмотрите, какой портрет эпохи в двух словах, в двух строчках: «Растраты, взятки и кино неслись, играя в домино».
Волнующий и шелестящий
И бледногубый голос пел,
Что чести нет.
И появлялся в кабинете
В бобры мягчайшие одет;
И превращался в ресторане
Он в сногсшибательный обед.
И, ночью, в музыкальном баре
Нарядной девою звучал
И изворотливость веселую,
Как победителя ласкал.
Я вот сейчас впервые подумал, что, может быть, Вагинов существует отчасти на пересечении традиций Заболоцкого и позднего Кузмина. Вот это ощущение страшного сна, бреда, который есть у Кузмина в «Параболах» или в «Темные улицы вызывают темные чувства», в стихах предфорельных, в стихах, где тайные страшные сны, роковые красавицы, все это переплетено, все нуждается в тончайшей расшифровке. Вот мне кажется, что эти интонации Кузмина соседствуют здесь с грубой простотой Заболоцкого — и возникает тот синтез, которого ни один из них поврозь достичь не мог. А Вагинов сумел это свести и сплавить.
Да, целый год я взвешивал
Но не понять мне моего искусства.
Уже в садах осенняя прохлада,
И дети новые друзей вокруг меня.
Испытывал я тщетно книги
В пергаментах суровых или новые
Со свежей типографской краской.
В одних — наитие, в других же — сочетанье,
Расположение — поэзией зовется.
Иногда
Больница для ума лишенных снится мне,
Чаще сад и беззаботное чириканье,
Равно невыносимы сны.
Но забываюсь часто, и по-прежнему
Безмысленно хватаю я бумагу —
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движенье элементов,
И образы под яростным лучом —
На миг. И все опять исчезло.
Надо сказать, что последние годы Вагинова ознаменованы были мучительными попытками как-то встроиться в жизнь. И он — несчастный коллекционер, мечтатель, знаток Античности и Европы — вынужден был работать над «Историей фабрик и заводов» и ездить на завод «Светлана», на завод электрических лампочек, с которого он возвращался всегда истощенным, изможденным. А он же был туберкулезник, со свищом на щеке, весь синий, шатающийся. Он роста был невеликого и сложения хрупкого. И вот этот ужас его последних лет, конечно, как подумаешь, невыносим.