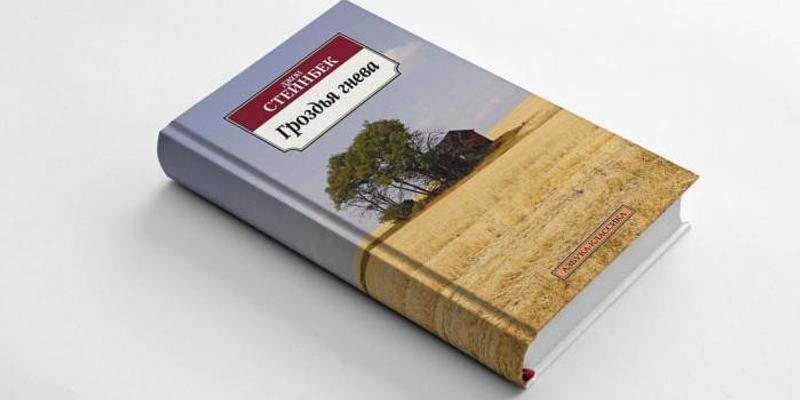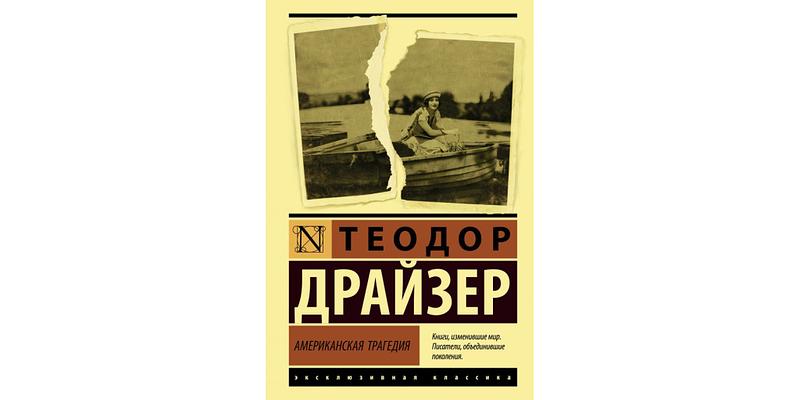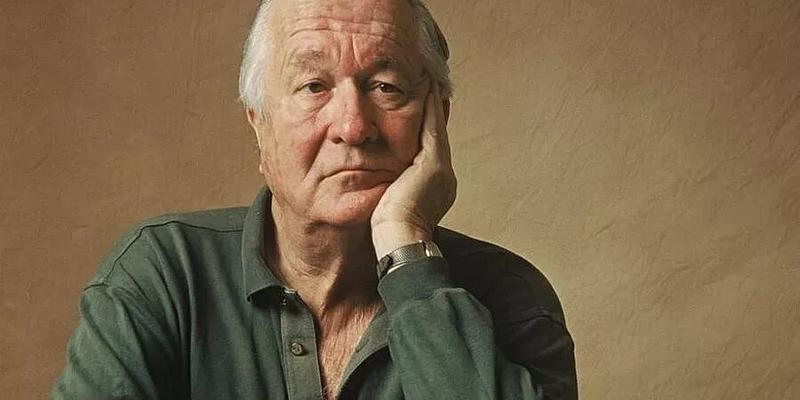Что касается социального реализма, то он чувствует себя очень хорошо, только он ушел в нон-фикшн. И это честнее, это правильнее. В Америке школа нон-фикшна такая, что, пожалуй, в последнее время даже лучше, чем школа традиционного фикшна и сайенс-фикшна уж точно. Нон-фикшн — это огромное, может быть, доминирующее направление американской литературы, где расследуются подлинные преступления, излагаются подлинные биографии.
В каком смысле это честнее социального реализма? Понимаете, социальный реализм… Ну, как у Драйзера, например, ведь «Американская трагедия» тоже написана по мотивам совершенно конкретного явления. Американский реализм все время пытался вывести из жизни какую-то мораль, ну, грубо говоря, угадать какие-то правила, по которым жизнь играется. Нон-фикшн, начиная с Капоте, этого не делает.
Мне кажется, что перерождение социального реализма произошло в шестидесятые годы, когда сформировался и в каком-то смысле процвел так называемый новый журналист, новый журнализм. Том Вульф (не путать с Томасом Вульфом, «Взгляни на дом свой, ангел»), Том Вульф, автор «Костров амбиций» и, кстати говоря, многих других гениальных книг, действительно гениальных, он говорил, что в каком-то смысле журналистика стала выше литературы, потому что литература коммерциализировалась, она ушла в коммерцию, она стала честнее.
Америка тогда проходила очень серьезную развилку. Тогда замолчал Сэлинджер. Тогда замолчал, надолго замолчал Хеллер после гениального дебюта своего, после «Catch-22» он чуть ли не 15 лет ваял «Something Happened». Тогда серьезный кризис пережил Воннегут, который вышел из него в совершенно новую прозу — в «Бойню номер пять» или в «Breakfast of Champions». И одновременно литература стала уходить в беллетристику — как, например, Апдайк, который хороший талантливый писатель, но, к сожалению, это все-таки проза массовая, проза довольно низкого пошива, проза, в которой нет эксперимента. И все разделилось на коммерцию и на нон-фикшн. Вот новый журнализм — это, если угодно, тот социальный реализм, который и есть высшая проба. Потому что Капоте доказал в «In Cold Blood», что не вывести мораль из истории. Жизнь холодна и блестяща, как его стиль, а под её поверхностью — хаос.
Что касается того, как повлияла Великая депрессия на литературу и кино. Она повлияла опосредованно. Она не успела повлиять — как началась война. И конечно, «Grapes of Wrath», знаменитые «Гроздья гнева» — едва ли не единственный великий роман об этой эпохе. Вот эпоха джаза успела отстояться и повлиять, а Великая депрессия отозвалась после войны. Война была таким, что ли, выходом, если угодно, такой попыткой вырваться из Великой депрессии со знаком «плюс», попыткой опять-таки внутреннюю проблему, что часто бывает, не то чтобы решить, а забыть за счет внешней катастрофы. И после Перл-Харбора уже Великая депрессия не так влияла на умы и сердца.
Поэтому влияние Великой депрессии — это отсроченное влияние, великая американская литература пятидесятых. Это Карсон МакКаллерс в первую очередь, Фланнери О'Коннор, которая вот вся вышла из Великой депрессии, которая вся вдохновлена вот этим депрессивным разлагающимся Югом. И в значительной степени, кстати, рассказ «Перемещенное лицо», военный,— это же и рассказ о Великой депрессии в том числе. Да и «Мудрая кровь», и «Хромые внидут первыми», и «Царствие небесное силою берется», роман,— это, знаете, отголоски почти библейской по масштабу катастрофы, которая и воспринималась как библейская. Понимаете, она не была описана тогда, она отозвалась в послевоенной литературе, изживающей тот опыт. Ну а потом начался тот новый журнализм — расследование преступлений подробное, описание всяких любопытных патологий, замечательные биографии, литература новой человечности, такой новой правды о человеке.