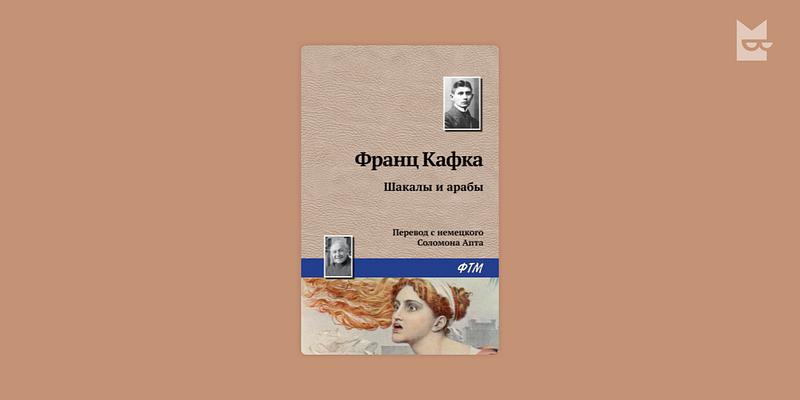Кафка – это такой австрийский и еврейский вариант Акутагавы и Хармса, главной проблемой которых были отношения с традицией. Японский европеец Акутагава, русский абсурдист Хармс, еврейский выродок-изгой, еврейский модернист Кафка. У всех троих трудные отношения с семьей, у всех троих – наследственное безумие (у Акутагавы – по линии матери, у Хармса – по линии отца), ранняя смерть, прожили все одинаково примерно – по 37, по 39, по 40 лет. И главная проблема – чувство вины. Потому что модернист исходит из двух вещей – чувства ответственности, он разделяет ответственность за мир. И чувство вины, потому что он всегда предатель традиции, он всегда уходит на новый уровень.
Для Кафки главной проблемой, конечно, были отношения с отцом на бытовом уровне и с еврейской традицией на мировоззренческом. Это и бабелевская отчасти проблема. Кафка вырвался из еврейского мира закона, мира суда, мира толкования Торы в мир свободного мира, в мир модерна, в мир личной ответственности. Но именно поэтому он обречен погибнуть.
Почему гибнет Йозеф К.? Потому что он разошелся с законом, и закон его преследует. Почему гибнет землемер К.? Кстати, понятно, почему они все «К.». Конечно, они все Кафки. У Кафки только один герой не Кафка – это Грегор Замза. Почему, скорее всего, в финале «Замка» должен погибнуть землемер ровно в тот момент, когда ему разрешат проникнуть в замок. Замок – это бог, это мир. Не зря в фильме Балабанова Кламма играл Герман, такой зиждитель миров, что отражено в германско-долинском фильме про него.
Кафка – это мучительная попытка свободного, дисгармоничного, одинокого сознания вернуться в мир логических, навязанных, жестоких, но все-таки прочных связей. Это еще и немножко сэлиинджеровская линия. Почему Сэлинджер так и любит Кафку. Он говорил, что всякий порядочный писатель, на вопрос о том, каково его мировоззрение, должен просто встать и выкрикнуть имена своих любимых авторов. «Я бы начал с Кафки», – говорит он. Не случайно есть сходство с мыслями из дневников Кафки с последними мыслями Симора: «Мои босые ноги шокировали публику».
Ведь «Рыбка-бананка» – это история о том (помню, как Людмила Александровна Силаева, наш преподаватель, объясняла нам этот рассказ) ведь Кафка – это мир того же Симора Гласса. Помните сказку, которую Симор Гласс рассказывает Сибилле: рыбка-бананка съела много бананов, и после этого она вернуться в нору не может. Она просто не лезет обратно и поэтому умирает. Симор Гласс вернулся с войны, но он увидел на войне такое, что после этого жить своей Мюриэл он не может. Ее баночки крема его раздражают мучительно. Он берет и стреляется.
Тут в этом-то и проблема, что модернист не может вернуться в мир закона. Йозеф К. умирает, и этому позору суждено пережить его. Он умирает как собака, убитый представителями закона, с которым он разошелся. Поэтому герой все время предпринимает мучительные попытки вернуться в мир устойчивости, вернуться хотя бы в женщину. Вероятно, лучшая эротическая сцена не только у Кафки, но и в мировой литературе: в «Замке» у него секс с этой бледной девушкой под прилавком, когда он задыхается в лабиринтах чуждой плоти, блуждает в другом человеке. Это мучительная – хотя бы через вагину – попытка вернуться в какой-то устойчивый мир, пробиться в какое-то устойчивое состояние, хотя бы в чужое. Кафка – одинокий, выброшенный из мира скиталец, который никогда не будет в этом мире своим (в мире Европы, например, потому что он еврей), но точно так же ему неуютно и в мире традиции. И неслучайно в его детстве один из самых страшных образов – это есть в «Письме к отцу» – когда отец его выставил на мороз на балкон.
Я думаю, что это стало для него каким-то прообразом всей его жизни. При этом тема зависания между мирами, разрыва с прошлым и невписанности в будущее у Кафки – самая мучительная. Вот это есть, например, в «Охотнике Гракхе». «Охотник Гракх» – это тоже охотник Кафка, конечно. Потому что он завис между жизнью и смертью, он не свой ни там, ни здесь. Почему он охотник? Почему у Тургенева есть «Записки охотника»? Да потому что писатель – всегда охотник за чужими душами, чужими историями. И вот этот полутруп… Помните, у Мамлеева был такой рассказ про вампиров. И там один вампир – он еще немножко человек, поэтому он испражняется как человек, рвет его кровью. Но он уже мертвый. Мамлеев ведь тоже человек, зависший между модерном и традицией. И вот это зависание между двумя мирами, принадлежность к двум мирам – это самый мучительный процесс.
Безусловно, Кафка понимает закон как диктат, понимает еврейское отношение к закону как тоталитаризм абсолютный, тоталитаризм божьей воли. Мир Кафки – это мир, конечно, ветхозаветный. Но сам он – человек Нового завета, человек свободного выбора, свободной формы, фантазии. Поэтому неслиянность, роковая несовместимость Европы и мира гетто и стал его трагедией.
Может быть, роман «Америка» был такой попыткой написать роман о побеге. Может быть, Америка снимет эти противоречия. Если ты не свой ни в гетто, ни в Европе, может быть, ты станешь своим в Америке. У него получился все равно очень диккенсовский роман. Но, кстати, многие евреи благополучно сбежали в Америку и стали там своими.
Кафка – это не предвидение тоталитаризма, это описание уже существующего тоталитаризма, детерминизма, управления человеческого сообщества жесточайщими законами (и страж закона там сидит). Но ты можешь, если захочешь (набоковская тема), выйти из этого замкнутого мира. Ты можешь, как Цинциннат, сказать: «А отчего я так лежу?» Ты можешь выйти из этого пространства, как Адам Круг выбегает из своего круга замкнутого. Но для этого надо обладать нечеловеческими способностями. Кафке же говорит страж Закона: «Ты мог войти, но не вошел». Я думаю, что и землемер К. мог бы войти в замок, если бы он плюнул и сказал: «Да ну вас с вашим замком, в гробу я видал ваши иерархии!».
Но это надо обладать каким-то другим сознанием. Хотя Кафка, конечно, этим христианским сознанием обладал. Он, как ни странно, на Советский Союз возлагал определенные надежды. Не зря ему так нравился неверовский «Ташкент – город хлебный». Но думаю, что в Советском Союзе он бы лишний раз убедился, что любые попытки вырваться из диктата приводят в еще худший диктата. Тут нужен мир какого-то бесконечного индивидуализма, вот Кафка индивидуалистом не был. Он был одержим идеей спасения человечества, отсюда его «Сельский врач»: «Веселитесь, пациенты, доктор с вами лег в постель».
Писатель больше не может спасти мир. Он не врач, он только может стеснить больного на его ложе. Кажется, «Сельский врач» – это самое откровенное и самое исповедальное его произведение. Вот «В исправительной колонии» – наверное, самый страшный, кровавый и безнадежный текст, который, тем не менее, дает определенную надежду. Из этого замкнутого мира, где наказываемый и наказующий меняются местами (как в «Учителе Гнусе» Генриха Манна – кстати, очень близкого к Кафке писателя): ты можешь быть не заключенным, не палачом, а можешь быть путешественником. Ты можешь быть случайным человеком, который потом оттолкнется и уплывает. Но для этого надо обладать статусом такого путешественника, а у евреев в начале ХХ века не было шансов на это. Может быть, Набокову повезло сбежать из того страшного мира, в котором он был одержим навязанными, ложными противопоставлениями. Кафка оставил нам потрясающую исповедь человека ХХ века, который порывается в другой мир и не может в нем существовать.
Из всего, что Кафка написал, выше всего я ставлю одну из его предсмертных записок, когда из-за распространения туберкулеза на горло, на гортань он не мог говорить. Он писал записки Милене: «Вопрос не в том, как долго я смогу выносить мои мучения. Вопрос в том, как долго я смогу выносить то, что их выносишь ты». Вот это, наверное, самое глубокое и самое мучительное, что он написал. Хотя и дневники его – это отражение потрясающей борьбы человека за раскрепощение. Любой, кто хочет сбежать из своей скорлупы, обязан читать Кафку. И только благодаря ему он сможет как-то вырваться. Не зря он был любимцем Ахматовой.