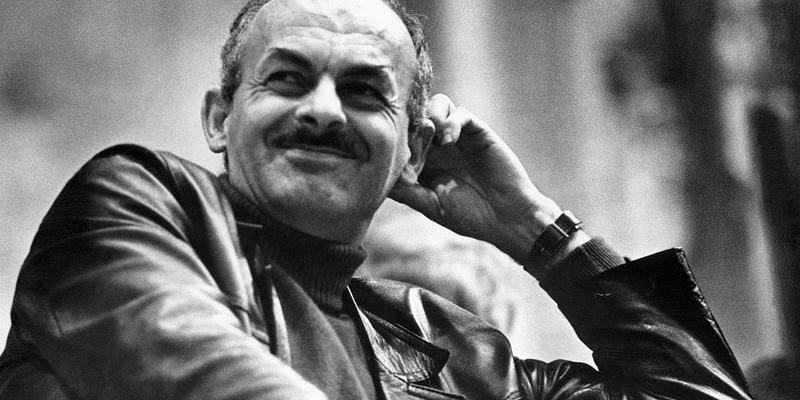Это долгий и большой разговор. В книге про Окуджаву об этом довольно много, потому что именно в Варшаве и в Праге — в Восточной Европе — Окуджава впервые оценил перспективы, и они не сказать, чтобы его очень обрадовали. Он об этом писал:
Свобода — бить посуду? Не спать всю ночь — свобода?
Свобода — выбрать поезд и презирать коней?..
Нас обделила с детства иронией природа…
Есть высшая свобода. И мы идём за ней.
Это строчки, которые не вошли в основной текст «Прощания с Варшавой». Всё-таки тогда ещё — в эпоху его посткоммунистических иллюзий — ему казалось, что это победа энтропии, что это победа антиромантических, прагматических, мещанских сил, что это победа мещанства. Потом, конечно, к 1968 году он пересмотрел это всё. Случилось наше вторжение, которое сильно испортило всё, и стало невозможно уже объективно оценивать эту ситуацию.
Но в Пражской весне тоже не всё было просто и не всё было хорошо. Я понимаю, что ввод войск — это такой жест медведя в посудной лавке, после которого невозможно становится объективно говорить о Пражской весне. Не надо было вводить войска. Не надо было Яна Палаха доводить до самосожжения. И не надо было мешать Восточной Европе разобраться в своих проблемах. Но ведь и не надо было расстреливать и новороссийские протесты. Там тоже протестовали бывшие ветераны войны (хотя бывших ветеранов не бывает), там тоже протестовали хорошие люди, вполне советские, у которых не было антисоветской агитации, это были рабочие. И вот в том-то всё и дело, что последняя точка бифуркации была пройдена в 1962 году.
Много можно было бы спорить о Пражской весне, если бы она не была задушена,— вот так я бы сказал. Я абсолютно уверен, что в самой Чехии зрело довольно сильное движение сопротивления Пражской весне, но просто Пражская весна оказалась навеки права из-за того, что она была раздавлена танками. И поэтому очень важные споры 60-х годов оказались недоспоренными.