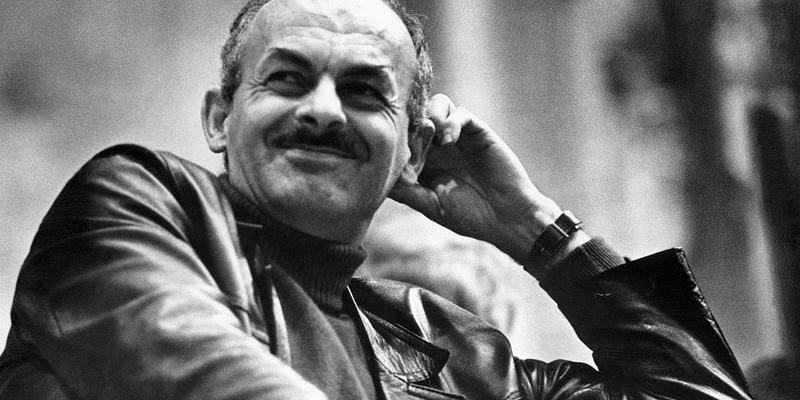Я выделил бы здесь Смелякова. Ваншенкин и Рождественский, по-моему, крепкие поэты второго ряда. Асадов вообще находится отдельно — он поэт устной традиции, такой песенной, такой ашуг своего рода. Всё это рассчитано на одномоментное восприятие абсолютно — может быть, отчасти в силу его слепоты, когда ему приходилось стихи воспринимать не глазами, а по памяти, звуковыми массивами. Он был талантливый человек и храбрый, но, конечно, его поэзия — это образец банальщины и гладкописи. Хотя когда он острит, он, мне кажется, более адекватен, так сказать. Нельзя сомневаться в его высокой человеческой порядочности.
Что касается Ваншенкина и Рождественского, то, к сожалению, слишком большой процент банальности в их текстах и некоторой экзальтации, особенно у Рождественского, мне кажется, не позволяет говорить о них как о поэтах, выражающих дух своей эпохи.
Что касается Смелякова. Понимаете, это явление примерно такого же типа, как его друг Светлов. Я выступал в Светловской библиотеке, моей самой любимой, и вообще это одна из моих любимых площадок Москвы, и публика туда пришла отличная. И было нас как-то много, и при этом было нам очень по-человечески тепло. Я там по их просьбе небольшую такую лекцию о Светлове прочёл, как я его люблю и понимаю.
Светлов — это неосуществившийся гений, это как бы генеральная репетиция Окуджавы. Смеляков, может быть, в чуть большей степени осуществился, но это сломанный поэт. Понимаете, он впал в такой стокгольмский синдром, пострадав от тоталитаризма весьма сильно. Трижды он сидел, причём, кстати, третий раз в Инте вместе с Дунским и Фридом, был одним из первых слушателей знаменитого сценария «Лучший из них». И вообще интересный был человек, яркий. Но он к последним годам своей жизни пришёл именно в состоянии стокгольмского синдрома — он начал этот самый тоталитаризм оправдывать и нашёл в нём некое величие. Такое бывает. Когда тебе надо как-то оправдать свою загубленную жизнь, ты находишь величие в этих позорных и страшных обстоятельствах. То, что он написал стихотворение «Трон» про царское кресло — это полбеды. Он написал ещё довольно, по-моему, гнусное стихотворение о Петре и Алексее, вот это:
…по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.
На кого ты пошёл, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?
— спрашивает он не просто у Алексея, а у всей русской интеллигенции протестующей.
Властно скачет державный гений
по стране — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.
Довольно мерзкое стихотворение, если честно. А Окуджава, например, понимал смеляковскую трагедию, сочувствовал ему и посвятил ему это замечательное стихотворение: «Два кузнечика зелёных в траве, насупившись, сидят». Стихотворение-то лучше, чем все смеляковские поздние.
У Смелякова были гениальные стихи. Он тоже неосуществившийся гений. К числу его гениальных текстов я отнёс бы, конечно, в первую очередь «Манон Леско». До сих пор я помню:
Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре,
и услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.
Женская смеётся голова,
принимая счастие и пыл…
Эти сумасшедшие слова
я тебе когда-то говорил.
И опять сквозь русский снегопад
Горько улыбается аббат.
Это неплохие стихи, особенно если знать сюжет «Манон Леско». Нравится мне, конечно, и «Любка», и очень хорошие стихи «Как знакома мне старая эта квартира!» (один мой друг, старый лагерник, замечательно пел их на свою музыку). В общем, у Смелякова были сильные стихи. Я не могу, конечно, согласиться с Межировым, который как-то, помню, на журфаке у нас выступая, сказал, что это был последний великий советский поэт. Нет, не последний и не великий, но были у него стихи выдающегося качества. Кроме того, то, что с ним случилось — это в огромной степени вина эпохи. Я среди его великих стихотворений назвал бы и «Жидовку», кстати говоря:
В восемнадцатом стала жидовка
Комиссаром гражданской войны.
Надо сказать, что слово «жидовка» употреблено здесь, конечно, в смысле горько-язвительном, ироническом. Страшноватое стихотворение. Помню, как Чухонцев мне его впервые прочёл (оно же не печаталось или печаталось в сильной редукции). Для меня это был очень важный текст. Так что Смелякова я воспринимаю иначе и лучше, чем поименованных вами литераторов.