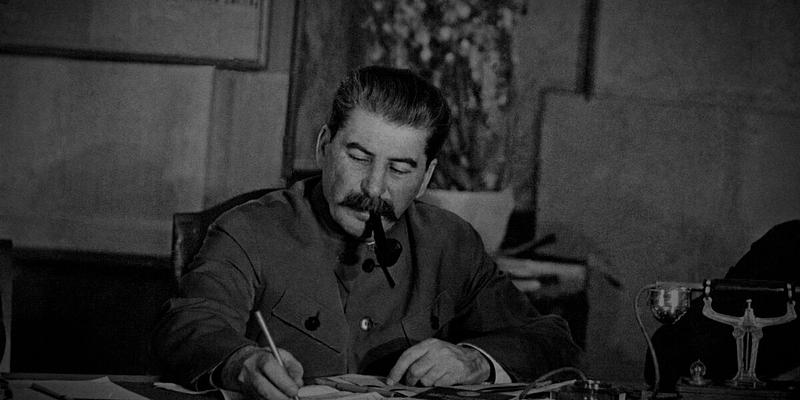Лев Толстой писал «Войну и мир» семь лет, а придумывал десять; за это время его концепция истории не успела радикально поменяться. Солженицын писал «Красное колесо» двадцать лет, а придумывал шестьдесят; за это время он пересмотрел очень многое. Есть разница даже в его исторической концепции начала книги, «Августа Четырнадцатого», и в «Апреле Семнадцатого». Поэтому говорить о «Красном колесе» как о книге концептуальной, как о книге, в которой присутствует концепция революции, я бы не стал.
После того Толстой написал «Войну и мир», представить себе Бородинское сражение, вообще ход войны и даже Аустерлиц иначе уже невозможно. То есть можно, если вы не русский, если вы не живёте в России, если матрица этой книги не стала частью вашей головы. А мы знаем свою историю так, как её написал Толстой. «Москва не подожжена, она сгорела сама»,— это думает так Толстой. Но это так стало, потому что он это так написал. Его художественная реальность, его космос оказались убедительнее любой правды. Ну, это потому, что правда всегда пестра.
Солженицын преследовал другую цель. Концепции истории в его романе нет. Он устами, кажется, Варсонофьева, если я ничего не путаю, там заявляет… Этот эпизод есть в «Октябре», но он повторяется, его вспоминают в «Марте». Когда они там сидят на Никитской и пьют не слишком холодное пиво (мне приятно думать, что они это делают в помещении нашей «Рюмочной» на Большой Никитской, 22 — ну, потому что, скорее всего, это так и происходит), Варсонофьев там говорит: «История, молодые люди, не имеет начала, конца и целей. И не нам, людям, её понимать».
То есть задача «Красного колеса» не в том, чтобы предложить свою концепцию истории, в том числе русской (вот это принципиально), поэтому Русскую революцию мы знаем не так, как её написал Солженицын. И затруднительно нам сказать, как собственно он себе представляет причины октябрьской катастрофы.
Я рискну сказать, что роман Солженицына «Красное колесо» — он про совершенно другое. Он про то, как следует вести себя человеку среди исторических событий, которые ему непостижимы. И больше того, это имеет ещё и достаточно глубокий прагматический смысл. Какие люди вернее всего выживают в таких событиях? (Ну, эта мысль была уже и в «Иване Денисовиче», и она есть в «Архипелаге», и она есть у Франкла.) Люди, которые обладают своей системой ценностей, отличной от общественной, от навязанной. Люди, которые обладают своим кодексом долга. И наконец — люди, которые верят, а не просто слепо исповедуют веру и выполняют обряды. Такие люди имеют шанс сохраниться и, более того, шансы на выживание более высокие имеют. А те, кто норовит поспеть за событиями, снять с них пенку, поплавать в мутной воде и половить в ней рыбку,— такие люди, как правило, обречены, и ничего хорошего с ними не будет.
Понимаете, ведь Солженицын объясняет примерно, очень примерно, что произошло с Россией в семнадцатом году: частные тщеславия, рыхлость сознания, как говорит Аннинский — «текучее и повальное попустительство людей своим слабостям», отсутствие нации, политической и религиозной, страшная разобщённость, эгоцентризм, воровство — ну, всё, что мы собственно в гораздо более слабом виде видели ещё в романе Наживина «Распутин». Да где мы только этого не видели, вплоть до Пикуля «У последней черты». Всё это губит Россию. Таких людей, как Столыпин, в ней мало.
Кстати говоря, апология Столыпина, которая есть в «Августе Четырнадцатого»,— немножко такое народное звено, мне кажется, в этом «узле». Немножко она и в самом романе смотрится чужеродно, потому что это откровенно публицистический кусок. Но ведь Столыпин нравится Солженицыну не за свои убеждения, а за факт их наличия. Это человек, у которого есть программа, взгляды, твёрдая нравственная основа — то, что там названо «крупной, сильной простотой». Это есть.
Если оценивать роман в целом, понимаете, мне из того, что наличествует, из четырёх написанных «узлов», мне больше всего нравится «Август»… «Октябрь», «Октябрь Шестнадцатого». Почему? Потому что время взято интересное. Я вообще всего люблю паузы. Солженицын взял принципиально из всех четырёх «узлов» один «узел», в котором ничего не происходит. Вот он специально в авторских пояснениях пишет, что специально взял просвет такой тишины, потому что на нём виднее, когда нет ярких событий, виднее общие болезни России, общие её проблемы.
Он подошёл довольно близко к причинам русской катастрофы. Именно в октябре шестнадцатого, вязком, болотистом, когда Саня Лаженицын сидит в окопах (прототипом является отец Солженицына, это общеизвестно), и он не может никак решить, что происходит, говорит со священником, спорит с ним, пытается понять христианство, даёт какие-то ответы или нет… «И можно ли считать христолюбивым воинством то воинство, которое убивает?» Священник ему отвечает, выражая солженицинскую мысль: «Войны — это не так плохо. В войнах гибнет гораздо меньше людей, чем от преступлений и от насилия. Поэтому война — вообще святое дело». Но главное в этой книге — это неопределённость, дикое ощущение болотистой какой-то взвеси, в которой все люди живут, отсутствие нравственных основ. Вот там Алина, жена Воротынцева, сестра его, которая всё ищет ответов каких-то (она библиотекарь там, насколько я помню), они все пребывают в метаниях, в неуверенности. И вот это состояние взвеси передано в книге великолепно.
У меня масса художественных, чисто личных претензий к «Колесу», потому что сама словесная фактура этой книги лишний раз заставляет вспомнить о сходстве Солженицына с Достоевским. Ведь понимаете, не зря типологически они так похожи. Если вы начнёте пересказывать биографию Достоевского, очень легко подумать, что это Солженицын. Я легко собственно могу это повторить, но уже это делал в программе «Один». Абсолютная цикличность российской истории подчёркивается сходством этих людей — вплоть до центральной дискуссии Ивана с Алёшей, подмеченной Лакшиным, дискуссии Ивана с Алёшей в «Братьях Карамазовых» и Ивана Денисовича с сектантом Алёшкой в «Одном дне…».
Все пороки Достоевского продолжаются у Солженицына. И конечно, Достоевский и Солженицын — оба гениальные как памфлетисты (вспомним у Солженицына «Улыбку Будды» — «В круге первом»), оба гениальные как публицисты, но художественная ткань грешит некоторыми довольно очевидными пороками. Во-первых, все герои говорят одинаково, и говорят они авторской речью тоже. Во-вторых, описания, пластика у Солженицына — не самая сильная его сторона. Он не может описать героя так, чтобы я его увидел. Слишком сильна проекция авторского отношения к нему и слишком банальны характеристики, к сожалению.
В чём абсолютная, на мой взгляд, польза и абсолютное величие «Красного колеса»? И у Солженицына, и у Достоевского есть претензии к человеческой природе довольно серьёзные, и именно в этих претензиях коренятся и их общественные убеждения. Человек должен, по Солженицыну, прежде всего верить в то, что он делает. «Вот если бы люди готовы были защищать себя, другая была бы история России»,— сказано в «Архипелаге». Люди должны быть последовательны, милосердны, должны обладать твёрдыми убеждениями, должны обладать эмпатией, состраданием, умением поставить себя на чужое место, должны быть надёжны. А Россия вся — интеллигентская, крестьянская, военная, монархическая, чиновная (там довольно широкая же панорама) — она вызывающе ненадёжна в «Красном колесе». Красное колесо катится потому, что некому его остановить, все его подталкивают. И вот это ощущение грозящей и усиливающейся катастрофы, воронки, в которую все сползают, оно становится доминирующим в «Апреле Семнадцатого».
Надо сказать, что у Солженицына художественной убедительности маловато, на мой взгляд, в этих книгах, потому что как писатель он гораздо более ярок в романе «В круге первом», конечно в «Раковом корпусе», конечно в «Матрёнином дворе» («Не стоит село без праведника»). А уж «Случай на станции Кочетовка» (или в печатном варианте — Кречетовка) — просто шедевр! Здесь я с Жолковским абсолютно согласен. Ну и «Ленин в Цюрихе» — выдающийся «сплот», как он сам называет её.
Но при всём при этом ощущения Февраля в этой книге нет — ни в «Марте», ни в «Апреле». Нет ощущения праздника, радости, нет счастья. Все герои тревожатся, видят хаос… Кстати, «Март» написан сатирически очень точно. Там замечательная есть сцена, где встречают, по-моему, Брешко-Брешковскую, а поезд не приходит, уже разруха начинается. Революция — это, конечно, хаос. Но революция — это ещё и праздник, это счастье, это радость. «Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде»,— как у Маяковского. Вот эти настроения могут быть сколь угодно ошибочные, субъективные et cetera, но они есть. А у Солженицына их совершенно не видно. Для него революция — это торжество мелких самолюбий и хаос. Понятное дело. Но если ты описываешь эпоху, то, наверное, следует делать это по всему спектру.
Россия Солженицына в «Красном колесе» — это Россия пошляков, воров, эгоцентриков и слабаков. Немногие положительные герои — например, Воротынцев — они отличаются какой-то удивительной правильностью и, рискну сказать, плоскостностью, какой-то неинтересностью. Мне всё время хочется, чтобы начались общественные, политические главы или такие доспассовские обширные цитаты из газет, речей, выписки. Солженицын же прибегает к монтажным приёмам любимым и замечательно ими пользуется, как собственно в своём сценарии «Знают истину танки!», замечательно умея вести повествование как бы на полный экран или на малый экран — ну, в абсолютно разных плоскостях.
Беда в том, что язык недостаточно гибок, язык не следует за этими перемещениями авторского взгляда и остаётся одним и тем же. В речи героев, в описании их мыслей царапают слова из так называемого «Словаря языкового расширения», царапают авторские интонации. И главное — вот насколько есть глубина и иррациональность в событиях истории, которая для нас непостижима, настолько нет глубины и иррациональности в поступках людей. Даже Ольда, которая там, ну, любовница Воротынцева, такое наиболее декадентское, сложное, я бы сказал, такое выморочное существо,— даже она удивительным образом неинтересна.
Если искать описания России накануне революции, то жизнь тогдашнего Петербурга, например, лучше всех дана у Алексея Толстого. Его называют поэтом нормы, но он на самом деле поэт массового безумия; и замечательно справился в «Сёстрах», особенно в первой их редакции, в первом томе «Хождения по мукам», замечательно справился вот с этим ощущением нарастающей катастрофы.
Солженицын слишком рационален для этого. И «Красное колесо», конечно, ценно именно своим историзмом, своими историческими, блистательно подобранными, по-настоящему глубокими иррациональными главами. И они же, эти главы, лишний раз доказывают, что человек в истории не может и не должен разбираться; человек должен думать о том, чтобы сохранить не себя, не свою жизнь, а своё Я и свои представления. Правда, герои Солженицына в этом смысле не настолько убедительны, как хотелось бы. Герои Солженицына слишком однозначны. Может быть, они не могут быть другими, потому что сложность, изломанность — это всё ему претит.
Но вот что мне показалось важным. В этом романе, в десяти этих томах совершенно не подчёркнут (я бы сказал — обойдён) главный конфликт эпохи — конфликт архаики и модерна. Может быть, это потому так, что для Солженицына само понятие модерна враждебно. И он к модерну относится презрительно, он не любит модернизма — при том, что он, как и Ленин, модернист стихийный. Его учителя в стилистике — это прежде всего Белый, Замятин и Цветаева. Он сам называл эти имена, во всяком случае Замятина и Цветаеву. И проза его — это проза модернистская именно потому, что она свободно меняет жанры, интонации временами, способы показа. Она свободно пользуется документальными материалами. Она консервативна и архаична как раз в плане психологии и в плане, я бы сказал, всё-таки таких убеждений автора, довольно старых, довольно архаических.
Я думаю, что наиболее точно позицию Солженицына отражает статья «Наши плюралисты». Он не допускает, что цельный человек может тем не менее иметь разные мнения, что цельный человек может быть подвержен некоторой душевной раздвоенности. Он может быть цельным по своим нравственным добродетелям сколько угодно, но он не обязан быть тоталитарно мыслящим, он не обязан быть скучно-однообразным. Статья «Наши плюралисты» — она немножко, по-моему, смешивает понятия. Там говорится о том, что моральный релятивизм очень опасен. Да, он очень опасен, безусловно, но можно не быть моральным релятивистом и видеть чужую правду. Солженицын этого не видит. И поэтому, мне кажется, его герои и отличаются такой плоской структурой.
Вот Ленин, например, у него немножко автобиографичен и забавен по-своему. И замечательная статья Жолковского «Бендер в Цюрихе» раскрывает ещё и ильфо-петровский подтекст этого романа, такого немного плутовского. Но проблема-то в чём? Что Ленин — при всех своих минусах — он-то человек как раз не плоский. У него азарт сильнее здравого смысла. И он не карьерист вовсе, и он не сосредоточен на революции, даже власть ему не так нужна. Его восхищает, заводит его, приводит в движение такой азарт исторического деланья. Мне кажется, проблема Солженицына в том, что он этого в Ленине совершенно не увидел. Ленин для него скучный тип, который, даже когда режет мясо, делает это сугубо рационально. А мне так не кажется.
Поэтому при всей своей безусловной исторической пользе, достоверности и даже, я бы сказал, титанизме своей исторической работы автор «Красного колеса» всё-таки не создал портрета этой эпохи. Потому что для Солженицына это было торжеством русского распада, русского тщеславия, воровства и рыхлости, а вместе с тем Русская революция была великим взрывом народного таланта, а не только зверства, была удивительной возможностью, которой никто не сумел воспользоваться. Это так, но возможность была.
И Русская революция была торжеством вертикальной мобильности, она вызвала к жизни абсолютно новые исторические классы, исторические типы людей. Россия совершила рывок, сопоставимый с петровскими временами. И сколько бы мы ни говорили о том, что этот рывок был чрезвычайно жесток, что Россия была на самом деле ввергнута в тоталитаризм, что сколько было положено людей на строительстве Петербурга и сколько людей съели коллективизация и индустриализация — всё это было, но только к этому творчество масс не сводилось.
Другое дело, что Русская революция была очень быстро осёдлана идеями русского реванша, это естественно,— реванша национализма, тех же имманентностей, того же славянофильства, того же бюрократического государства, чего угодно. Но удивительно, что в революции, в хронике революции у Солженицына нет революционеров. Вот это вечная претензия, знаете, к советскому искусству: «не показана действительность в её революционном развитии». Но те революционеры, которые показаны у Солженицына,— они, как и у Достоевского, полны бесовщины, и ни в ком нет святости. Но эта святость была, потому что не все были такими, как провокатор Богров, убийца Столыпина, понимаете, который проник на «Сказку о царе Салтане» по билету, выписанному Кулябко, шефом киевской полиции. Там были совсем другие люди.
Разная была Русская революция. И Солженицын видит её по-достоевски однобоко — что и убедительно по-своему, и понятно, и спасибо ему огромное за эту работу. Но помимо «Красного колеса», нужна какая-то другая хроника — хроника несбывшихся возможностей. В этом смысле полезно читать писателей русского модерна, в том числе ту же Гиппиус.
Нужно ли читать «Красное колесо» целиком? Он сам выделил четыре тома небольших сплоток, но они не дают, конечно, полного представления. Знаете, во время отпуска возьмите с собой эту книгу, когда вы будете спокойны и открыты чужому опыту — и вам будет интересно. В остальном же, мне кажется, Солженицын велик как художник не там, где он касается политики. Хотя как историк он тоже очень интересен.