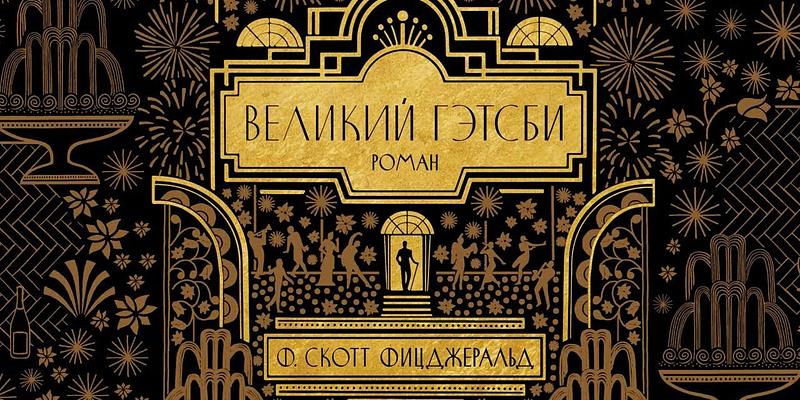Олеша — гений. Под гением что я понимаю? Есть разные определения гениальности: простота, абсолютная новизна. Но мне кажется, что абсолютный признак гения один: талант хорошо умеет много вещей, гений умеет хорошо что-то одно. Чудовищно беспомощны сценарии Олеши, довольно беспомощны его пьесы. Ну, сценарии — там не только «Ошибка инженера Кочина», а прежде всего «Строгий юноша». Он был напечатан в «Новом мире» и потом перепечатывался. Но и это фильм, по-моему, ужасный, Абрама Роома. Но самое ужасное, что это дикое совершенно чтение, какой-то сценарий кошмарный, невыносимый, пошлость дикая. Но Олеша гений прозы.
Он работал в основном в трех жанрах. Первый жанр — это сказка. И первый его большой текст — это «Три толстяка», неоготическая сказка, современная сказка. Лучше него этого не делал никто. Второй жанр — это роман, маленький роман советский. И конечно, «Зависть». Совершенно правильно сказала Берберова: «Одной этой книгой все наше поколение было оправдано».
Я очень высоко ценю прозу, скажем, Бориса Поплавского (выше, чем его стихи), и проза Поплавского очень похожа на прозу Олеши. Может быть, это единственный ряд, в который Олешу можно как-то встроить. Это такие сны, волшебные сказочные сны, увиденные современным человеком, беглецом от дикой реальности. Конечно, проза Олеши волшебна, магична. И не только благодаря метафорам, а благодаря, главным образом, настроению. Вот то настроение, которым проникнута «Зависть»… Оно есть, кстати, у Поплавского тоже, особенно в романе «Домой с небес», в продолжении «Безобразова». Вообще почитайте прозу Поплавского, ели у вас будет такая возможность. Это мощное такое средство, мощный генератор, такой кислород жажды жизни. Потому что когда от жизни начинаешь уставать, когда в ней перестаешь видеть чудо, чудаки и безумцы Поплавского очень здорово возвращают тебе надежду. И в этом же проза Олеши. Это такой шипучий кислород, такое какое-то… кислородный коктейль, простите за пошлость.
Так вот, общее настроение прозы Олеши важнее всех его метафор. И настроение это очень простое. Это крик души человека, которого со всех сторон окружают люди, знающие, как надо жить. А он умеет делать чудеса («Я — скромный фокусник советский, я — современный чародей»).
Конечно, важный герой, главный герой «Зависти» — это герой второй части, вовсе не Николай Кавалеров, а это Бабичев-старший, Иван Бабичев. Толстый добрый мальчик, немножко похожий по своей сонливости и мечтательности на набоковского Лужина, пухлый Ваня Бабичев, который носится с безумными идеями. Например, он придумал машинку, которая заставляет видеть сны, внушает сны. И вот его отец сказал: «Если ты мне не покажешь битву при Фарсале, я тебя выпорю». И в результате он не увидел никакой битвы при Фарсале и Ваню выпорол. А битву увидела кухарка. Ну, он случайно не тому человеку внушил сон. Вот это гениально! Там он носился с какой-то палкой, на которой звенели бубенчики, подвешенные к старому абажуру, насколько я помню. А потом увидела это кухарка — каких-то людей, лошадей, какую-то битву.
Надо сказать, что Иван Бабичев — это как раз один из главных трикстеров двадцатых годов, один из великих плутов. Он не жулик, он плут, он чудотворец. Конечно, он немного пошляк. Но дело в том, что его пошлость напрямую наследует высокой пошлости Серебряного века. Он — то немногое, что от Серебряного века уцелело. Конечно, Бабичев — это мечтатель, это создатель, творец другой реальности. Кавалеров — фигура, в сущности, автопортретная и довольно жалкая, потому что Олеша к себе всегда относился очень критично. Талант свой ценил, а себя считал, конечно, очень несовершенной личностью, да и плохим писателем все время себя называл, и все время боялся исписаться.
Он, конечно, не главный герой (Кавалеров). Кавалеров — носитель зависти. Он хочет быть таким, как Бабичев-младший, как Андрей. А если он и не хочет стать таким, то он хочет иметь это. Он хочет этих девушек, он хочет это положение, это квартиру. А Бабичев-старший не хочет. Вот в этом его великое преимущество — Бабичев-старший не хочет жить, как его прагматичный брат Андрей. Зависть Кавалерова — это низменная реакция. А Бабичев никому не завидует, потому что он творит свои чудеса, создает машину желаний, создает сюжеты. Вокруг него закручивается миф. Действительно, он привносит в мир элемент чуда.
Зависть — удел кавалеровых. Зависть — удел строгого юноши Володи, который тоже ведь завидует Кавалерову, презирает его и завидует ему, завидует его способности ставить слова определенным образом. Конечно, Володя, строгий юноша, не более чем пошляк. А вот Бабичев-старший не завидует никому, потому что он творец мироздания.
Третий жанр, который Олеша довел до совершенства и который он вовсе не считал своей заслугой, но этот жанр пришел именно с ним,— это короткая, фрагментарная эссеистика, из которой состоит так называемая «Книга прощания» (хотя вышла она первоначально, составленная Шкловским, под названием «Ни дня без строчки»). Олеша всю жизнь после «Зависти» мечтал повторить этот успех и горько страдал из-за того, что больше этого сделать не может.
У меня в «Оправдании» (грех себя цитировать, но мне эта формула нравится): «Он чувствовал себя птицей, которая пытается ходить, а может только летать». Он хотел писать романы, а романы больше не были нужны. Этот жанр умер, он уже не нужен. Нужно писать вот эти короткие воздушные фрагменты. Конечно, восходит эта фрагментарность к Розанову, а розановская восходит к Ницше. Это Ницше первым начал писать фрагментами и афоризмами. Почему? Потому что афоризм не предполагает целостной философской системы. Он предполагает то, что Вайль и Генис называли «квантами истины» — такие уколы правды, уколы точности. Систему в таком богатом, меняющемся, таком страшно сложном мире, каков был мир XIX века, уже построить нельзя. Можно построить такую сеть, в которую ты как бы ловишь мир, точки вот этих мучительных попаданий.
И в этом смысле книга Олеши — это именно точечные такие уколы воспоминаний, догадок, мыслей, неосуществленных набросков, черновиков. Вот у Гарифа Басырова (был такой замечательный художник), у него был такой цикл маргиналий — это наброски на полях. Рисунки, которые он делает во время телефонного разговора. Тут же какие-то записи телефонов, расчетов. Тут же какие-то скетчи внезапные, просто озарения. Это особый жанр.
Не нужно совершенно в наше время писать романы с началом, серединой и концом. Достаточно вот этой сетки, которую вы так странно набрасываете на мир. И я люблю очень за это Олешу — именно за то, что он отказался от целостной системы, отказался от поисков вот этого единого жанра. Я думаю, что «Книга прощания» производит невыносимое, конечно, впечатление, потому что это борьба человека с немотой. Он понимает, что он в это время писать не может. «Петь не хочется под звон тюремных ключей». Как правильно сказал Ясен Засурский: «Талантливый человек может писать во всякое время, а гениальный — не во всякое»,— сказал он о Трумене Капоте в день, когда узнал о его смерти и читал нам лекцию. Засурский, сформулировал гениально.
И Олеша, конечно, мог писать не во всякое время. Он писатель двадцатых годов, а в тридцатые, как правильно показал Белинков, он пишет поденщину, отвратительные статьи какие-то, совершенно советские, произносит чудовищную свою речь, что «если партия осудила моего друга Шостаковича, я тоже должен осудить моего друга Шостаковича». Ну, бред! А душа его в это время, понимаете, она стонет и скрипит. «Сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло»,— помните у Бабеля в «Моем первом гусе»? Вот в этом весь ужас: в оскверненную эпоху остаются только эти подпольные крошечные черновые, совершенно по сути маргинальные и посмертно изданные тексты.
Я думаю, что книга Олеши, «Книга прощания», в ней тоже есть какой-то кислород. Но это, конечно, не тот пузырящийся кислород, который есть в «Зависти», в ослепительно волшебной, изящной книге. Он сам говорил, что от её страниц исходит эманация изящества. Но, тем не менее, в этой последней скрипучей страшной книге тоже есть удивительная мощь, и поэтому чтение Олеши абсолютно целебно.
Вот главная эмоция «Зависти» — это: «А не пошли бы вы все, которые знают, как мне надо жить! Не послать ли мне к черту все законы жизни, законы жанра и не создать ли мне что-то легкое, воздушное, свободное, блестящее, как пузырь? Не выдуть ли мне пузырь?» Вот в этом, мне кажется, и есть собственно главная правда Олеши.