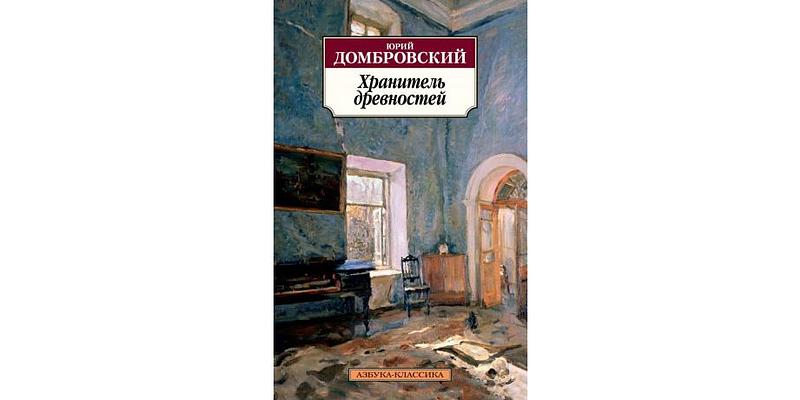Юрий Осипович Домбровский в русской литературе оказался на отшибе. Вот можно по-самойловски о нем сказать: «Мне выпало все. И при этом я выпал, как пьяный из фуры, в походе великом». Я остановлюсь лишь на немногих вещах из его творческой биографии, которые менее известны. Все знают, что гениальная идеология «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» принесла ему не только посмертную, но и прижизненную славу. Действительно, все почти, кто в 60-е годы прочел «Хранителя», этот неправильный роман, неудобный роман, начинающийся с огромного описания алма-атинского собора, роман, в котором, казалось, бы так мало действия, но так много струнного, подспудного напряжения 36-го — 37-го года.
Это, конечно, все, кто это читал, были поражены этим чудом. Но Домбровский — не только выдающийся изобразитель и не только выдающийся полемист, автор двух романов о советском правосознании и о психологических кошмарах террора. Домбровский для меня прежде всего автор трех менее известных книг — это «Обезьяна приходит за своим черепом», это «Державин» и это «Рождение мыши». Ну, к публикации «Рождения мыши» я был некоторым образом причастен, потому что я собирал эту книгу по кускам. Я, зная авторский замысел, он в общих чертах был известен, реконструировал двухчастную композицию этой книги, где в первой части речь идет о таком отрицательном, как бы избегаемом авторском альтер эго, об успешном человеке Семенове, о том, кем мог бы стать Домбровский, если бы он не оказался в ссылке.
И вторая часть — это о таком аутсайдере, который относится к жизни не потребительски, который не победитель и который, тем не менее, для Домбровского самый ценный результат советской истории. Вот «Рождение мыши» мне в этом смысле кровно близко, потому что я в буквальном смысле вставлял вот в ткань этого романа то, что Домбровский оттуда и опубликовал отдельно — там «Леди Макбет» — замечательный рассказ, или «Хризантемы на подзеркальнике». То есть я находил места, откуда это выпало.
Но начнем с «Державина». «Державин» — первый роман Домбровского. Очень сильно, конечно, носящий на себе следы влияния Тынянова и, прежде всего, «Смерть Вазир-Мухтара» и, может быть, «Восковой персоны». Там очень мало того, что мы называем Домбровским, как мало Мандельштама в ранних стихах Мандельштама. Но там это есть. Это, во-первых, чрезвычайная свобода и актуальность обращения с историческим материалом, блистательная идеология, полное отсутствие ненужной стилизации, фантастическая непосредственность в общении с героями 200-300-летней давности. Ну, какая была у него блистательность в его рассказах о Шекспире — «Смуглая леди».
А второе, что важно, конечно здесь — это удивительная нестандартность мировоззрения Домбровского, невозможность его вписать ни в какие рамки. Ну, с одной стороны, на первый самый поверхностный взгляд, ведь «Державин» написан человеком, который уже побывал и в заключении под арестом, и в ссылке. Он писал это в ссылке в Алма-Ату. И он прекрасно понимает, что такое большой террор. И в «Державине» как он умудрился это в 38-м году напечатать? Только в Алма-Ате можно было такое опубликовать. Но он умудрился опубликовать. Вот это описание переполненных тюрем, допросов, на которых следователи пытаются подловить только что арестованного, ещё находящегося в шоке, ещё не пришедшего в себя подозреваемого, чтобы из первых его оговорок соткать дело, потому что на этих этапах, когда дело ещё, простите за рифму, не отвердело, каждая оговорка может стать роковой.
И в этот момент надо взвешивать каждое слово, а никто не взвешивает и лепятся слова против них. И не в чем признаваться, и их не в чем обвинять, там одни подозрения, но их заставляют признаться, оговаривать себя, выдумать, в чем они виноваты. «Признавайся»,— все время требуют. Чтобы они сами себя оговаривали под действием этого ужаса тотального. Так он описывает расследование Пугачевского восстания. Но дальше, вот здесь начинается то, что есть только в Домбровском. Домбровский действительно заходит дальше банальных оппозиций. Для советского человека Пугачевское восстание — это однозначно как бы добро, это народный бунт. И даже слова Пушкина о бунте бессмысленном и беспощадном советского филолога, советского читателя не останавливают.
Мы продолжаем говорить о том, что Пугачев — это бунт против социальной несправедливости. Но для Домбровского здесь встают очень важные действительно вопросы — А вот Державин, почему он принял участие в подавлении Пугачевского восстания? Более того, он рисует его одним из самых злых, жестоких, хитрых допросчиков. И ведь это делает Державин, великий поэт. Почему он это делает? И вот здесь Домбровский впервые высказывает довольно страшную мысль. Почему Державин на стороны государства? Потому что государство в его мире — носитель порядка. Его мир иерархичен, а раз он иерархичен и раз мир всякого поэта по определению удерживается на вертикали, только это не вертикаль власти, а ценностей незыблемая скала. Вот он оказывается на стороне государственного подавления. Надо, кстати, сказать, что это же противоречие — Державин не за восставших, а Державин подавляет.
Это же противоречие мучало и Ходасевича в его книге о Державине, но у него там этому уделено 20 страниц, а у Домбровского — 200, весь роман. И Ходасевич снимает это противоречие довольно легко. Для него все-таки Державин не государственник. Для него государственная служба в тягость. А Домбровский идет дальше. И фантастический парадокс в том, что он пишет это не в эмиграции, а в Советском Союзе, где все восставшие по определению правые. Для него Державин — это именно защитник гармонии как это ни ужасно. И эта гармония теснейшим образом связана с российской государственностью и с Фелицей, и с матушкой Екатериной. И для Державина его карьера — это продолжение поэтического служения, это часть его. Когда Пушкин говорит, что Державин повесил двух пугачевцев из поэтического любопытства, он повторяет слова Дмитриева и он, скорее, издевается над этим.
Но для Домбровского вот эта государственная служба Державина, который оказался на стороне репрессий, он его не оправдывает, боже упаси. Он просто констатирует наличие такой связи — взаимное тяготение поэта и власти. Ведь Пушкин сам пал жертвой этого тяготения. Вот Жолковский объясняет это тем, что поэт — и сам власть, поэтому он чуток к власти, к её запросам. Я бы с этим не согласился. Но то, что отношение поэта и власти — это, как правило, отношение взаимного тяготения… То, что Пастернак сказал: «Он верит в знание друг о друге предельно крайних двух начал». Это трагедия, это страшная вещь, но оно есть. И избыть это нельзя. И Домбровский, 29-летний Домбровский отважился об этом сказать. Вот почему «Державин» — великий роман.
Ну а второе великое произведение Домбровского — это то, что он начал писать в 43-м году актированный. Вы можете себе представить, в каком он был состоянии, если его действительно уже в пеллагре, в дистрофии, в полной неподвижности фактически сактировали в 43-м году. Это значит, что он был живым трупом. Но он выжил. Во многом, выжил благодаря тому, что, вернувшись в Алма-Ату, начал писать роман о фашизме. Это не роман о русском фашизме, как многие говорят, прочитав «Обезьяна приходит за своим черепом», прочитав его поверхностно. Домбровский, ещё раз говорю, он не укладывается в поверхностные интерпретации. И там, где мы ждем от него однозначного сочувствия и однозначной правоты моральной, он как раз делает некий финт.
Он — писатель 20-го века, писатель моральных парадоксов. И, конечно, «Обезьяна приходит за своим черепом» — это роман не о советском тоталитаризме. Хотя там много намеков и на него в том числе. Но это роман о крахе европейской идеи, о крахе европейского просвещения. О том, что Европа не выдержала фашизма. Кстати говоря, блистательная идеология, удивительно достоверные, живые, будничные вот в этой прозе уже есть. Там пафоса нет никакого. Герои говорят, не просто произнося монологи на отвлеченные тем. Нет, это живой, драматичный, страшно актуальный диалог. Но тема «Обезьяна приходит за своим черепом», там не зря герой — антрополог. Идея там — именно судьба человека как проекта. Антропологическая катастрофа 20-го века.
Она не социальная, она не национальная. Эта катастрофа заключается в том, что в человеке обезьяна оказалась сильнее, чем предполагалось. И эта обезьяна сейчас действительно вернулась, она пришла в кабинет антрополога и потребовала, чтобы он вернул её череп. Она сама сейчас будет заниматься исследованиями. Фашизм для Домбровского, как это ни ужасно, он естественно вытекает из человеческой природы. И страшно подумать, что в 43-м году советская система для Домбровского — это все-таки альтернатива. Потому что в советской системе человек до таких глубин расчеловечивания не дошел, и все-таки советская система сумела противопоставить нечто фашизму, и победить, и разгромить фашизм. Может быть, потому, что люди этой системы были менее избалованные и привыкли рассчитывать на худшее. А, может быть, потому, что люди этой системы не верили ни во что и ни в один тоталитаризм не верили, потому что обыватели, да и не просто обыватели, мыслители у Домбровского поразительно легко поверили в фашизм.
Они верили в некоторые основополагающие принципы его, а в России ни во что особенно не верят. В России страна не идеологическая. В России верят в человеческое, а не в идейное. И именно поэтому в этом романе Домбровского Россия противопоставлена Европе. Позднее такой же роман написал Эренбург. И герой там тоже антрополог. Я говорю о более великом романе, колоссально повлиявшем на европейский мейнстрим. Там тоже сказано, что Европа не выдержала фашизма. И именно за это роман получил Сталинскую премию. Сталину лестно было услышать, что советская цивилизация антропологически иная. Но Эренбург всего лишь 4 года спустя или 3 пришел к тем же выводам, к которым до него в Алма-Ате в пеллагре, в дистрофии пришел Домбровский.
И он написал этот роман, который стал приговором европейской философии, европейской антропологии, европейской самовлюбленности и самоуверенности человека, человека модерна в том числе. Потому что вот это ощущение, что человек нам уже понятен, что нам ясны его мотивы… Нет, в человеке обезьяны больше, чем мы думаем. И этот страшный прогноз сейчас подтверждается на наших глазах. Человеку нужно ещё нечеловеческое, сверхъестественное усилие, чтобы стать человеком, ему ещё надо научиться прыгать выше головы. И тогда он, может быть, когда-то дорастет.
Потом удивительная, конечно, вещь — «Рождение мыши», потому что… Что, собственно, «рождение мыши», что это за метафора? Это вот гора родила мышь, великие надежды на человека, на новый век, на новую цивилизацию. Они вот таким образом не сбылись и обманули. Обманула та мечта, как всякая мечта. И самое страшное, что гора действительно родила мышь, потому что и после Второй мировой войны не произошло никакого перелома. Человек остался во многих отношениях также уязвим, остался рабом. И в «Рождении мыши» как раз показано, как после Мировой войны, после Отечественной войны вернувшиеся люди во многих отношениях возвращаются в НРЗБ. Вот это ужасно, конечно.
И «Рождение мыши» — это результат всей истории 20-го века, страшной истории. Но человек, к сожалению, не поднялся. И страшный этот опыт его не переделал.
Вот мне кат-то спросили, что я думаю о стратегии Зыбина в «Факультете ненужных вещей»? И можно ли сказать, что Малобродский прибегнул к той же стратегии, а она оказалась победительной?
Да, наверное, потому что Зыбин все время издевается над ними. Помните, вот он пишет эти свои издевательские показания, подписывая их «к сему Зыбин», он измывается. Позиция моральной высоты не изменяет ему. А почему? А потому что он не сомневается, он не признает себя виновным. Домбровский тоже не из терпил. Он из хулиганов, нагло бросающих вызов. Он не желает признавать свою вину никогда и ни в чем. Я вам прочту стихотворение Домбровского, которое очень хорошо характеризует эту позицию.
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком…»
— Домбровский,— говорят,— ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут… Посмотри же!
— Не слышу,— говорю,— пожалуйста, поближе!—
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая:
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы.
— «Так не отдашь топор мне» — «Не отдашь?!» —
«Ну сам возьму!» — «Возьми!» — «Возьму!..» —
«Попробуй!»
Он в ноги мне кидается, и тут
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп
И — поминайте как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»
И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как пьют, как заседают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!
Понимаете, вот сказать «как мне не повезло» — в этом есть моральная победа. Точно так же, как в «Рождении мыши», он, описав себя беззубым лузером, все-таки показал, что любовь-то осталась с ним, жена-то вот эта не венчаная к нему ушла, потому что в нем осталась вот эта страстная внутренняя сила — «Гляжу веселым волком». Пора перестать терпеть и глядеть с чувством вины. Пора перестать отыскивать эту вину. Пора перестать рассказывать им, в чем мы перед ними виноваты.
Это они виноваты. Пора глядеть веселым волком. И в этом пафос великой прозы Домбровского. Ну и конечно всем, кто сейчас томим страхом, дурными предчувствиями, отвращением к жизни и так далее, я советую читать не только его стихи, не только его прозу, но и его новеллистику. Прочитайте рассказ «Ручка, ножка, огуречик». Вам очень полегчает.