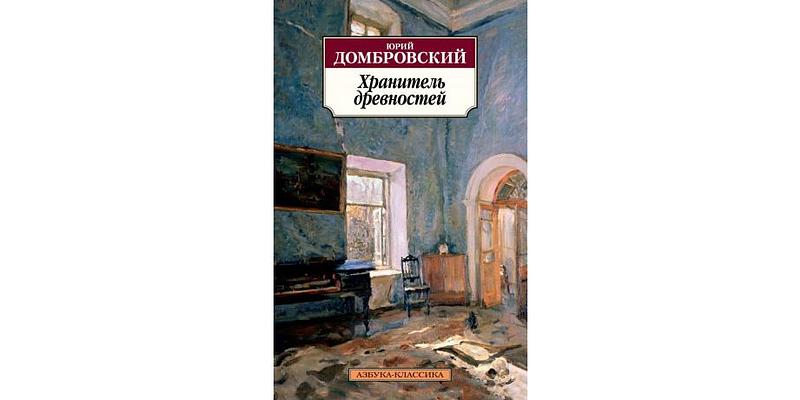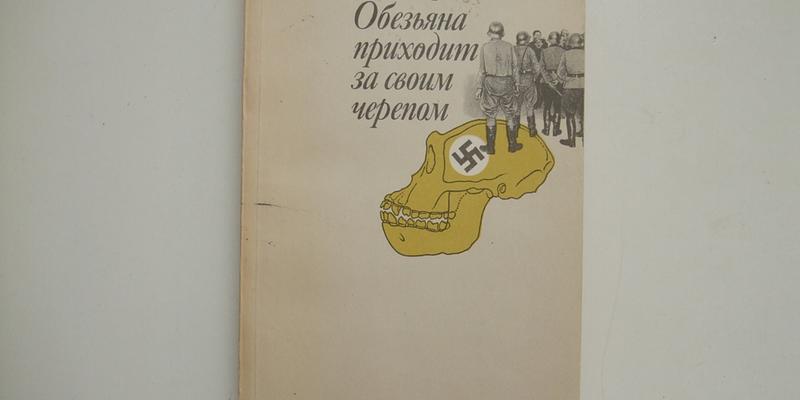Эта книга на первый взгляд неожиданная, книга, которая была закончена в 1944 году и пропала. Нашлась она странным образом только в 1958 году. Это роман Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом».
О Домбровском вообще надо рассказывать отдельно, потому жизнь его ― удивительный детектив. Самое удивительное, что книги его продолжают обнаруживаться. Полулегендарный роман, само существование которого было под вопросом, первая его большая прозаическая работа, роман в повестях и рассказах «Рождение мыши», был опубликован только в 2010 году. Мне самому пришлось вместе с редактором издательства «ПРОЗАиК» из черновиков собирать удивительно сложно построенную, буквально рассыпающуюся под руками книгу.
Юрий Осипович Домбровский сидел трижды, сидел очень тяжело. Первый раз он попал в ссылку, потом его арестовали по доносу, и он оказался на Колыме. С Колымы его сактировали. Как вы понимаете, актировка ― «по актировке, врачей путевке, я покидаю лагеря» ― это уже действительно для полутрупа. Если человек не может далее отбывать наказание, значит, он действительно фактически мертвец.
Живой мертвец Домбровский, погибающий от пеллагры, в 1943 году умудрился доехать до Алма-Аты, где отбывал когда-то ссылку. Город этот был для него фактически родным. Там, в больнице, с трудом водя рукой, он начинает писать роман, которому суждено стать первой книгой о фашизме. Он заканчивает его в 1944 году, а потом по доносу известной впоследствии детской писательницы Ирины Стрелковой, которую он потом разоблачил, Домбровский садится сразу после войны и попадает в лагерь еще на шесть лет. Только после этого, когда он реабилитирован, ему неожиданно, совершенно случайно приносят пачку тетрадок, уцелевшую в Алма-Ате при обыске, пачку черновиков «Обезьяны».
В 1958 году он приводит роман в порядок, дописывает к нему пролог и эпилог, где упоминает уже и дело Розенбергов, и маккартизм, и волну послевоенной реабилитации фашизма, которая случилась и которую он предсказывал. В 1958 году книга выходит в свет, практически никем не замеченная. Это очень странно, наверно, потому, что от Домбровского, человека с тремя сроками, ждали чего-то гораздо более разоблачительного.
Хочу сказать, что до 1962 года лагерная тема официально остается железно табуированной. Ничего о советском тоталитаризме напечатать нельзя. Пока в ноябре 1962 года не появляется «Один день Ивана Денисовича», ничего о лагерях официально напечатать нельзя. «Колымские рассказы» Шаламова ходят по рукам, напечатанными их никто не видел. Я уж не говорю о массе других лагерных текстов, которые тоже написаны и не существуют официально.
Вторая причина, по которой этот роман остался незамеченным, ― эта книга очень европейская. Как и очень многие рассказы Домбровского (например, рассказы о Шекспире), она свидетельствует об энциклопедической образованности автора, о его отточенном европейском ироническом суховатом стиле. Это совсем не то, чего ждешь от человека с подобным опытом. Он пишет серьезный европейский интеллектуальный, философский, я рискнул бы сказать, антропологический роман. А это, в общем, не приветствуется.
Советская печать тогда рассматривала только социологический аспект фашизма. В самом деле, не расисты же мы, не можем же мы говорить, что бывают люди хорошие, а бывают плохие? Нет, бывают люди, попавшие в неправильные условия. Там, в Германии, сложился такой социальный климат, что представители крупного капитала взяли на вооружение реакционную теорию, в результате Европа так сильно скакнула назад, вдруг скакнула в средневековье. Предположить, что мы столкнулись в лице фашистов с антропологической проблемой, вслух было нельзя. Это и сейчас вслух не очень можно говорить.
Есть три книги, ― я не беру сейчас Гроссмана, это отдельная тема, ― в которых главный герой ― антрополог, и это сделано сознательно. Это роман Эренбурга «Буря», который я считаю лучшим русским романом о войне, романом, в котором раньше Гроссмана и Симонова, бескомпромисснее и живее поставлены главные вопросы.
Второй роман ― роман Литтелла «Благоволительницы», который в значительной степени, кстати говоря, базируется на материалах и манере «Бури», на записках Юргенса, на текстах Гроссмана, то есть книга в достаточной степени вторичная.
И, наконец, третья книга ― роман Домбровского, которому так не повезло, который еле живой бывший зэк дописывает в 1944 году в Алма-Ате, а между тем это великий европейский роман, который ставит в полный рост главные проблемы.
Домбровский, вообще говоря, стоит в русской литературе наособицу, потому что он очень непохож на традиционного русского писателя. С кем его можно было бы сравнить? Наверно, разве что с Лимоновым, потому что есть в нем какое-то героическое самолюбование, молодечество удаль и совершенно нет желания жаловаться. Он очень неубиваемый человек.
Известно, что Домбровский умудрялся и в лагере шутить по-французски, как вспоминают его сосидельцы. Он умудрился написать два веселых, увлекательных романа о времени репрессий. Его знаменитая дилогия, «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей», как ни удивительно, ― это книги, полные очаровательных женщин, любви, задора, юмора, секса, насмешки. В общем, он совершенно боком стоит в русской страдательной и просто монотонно занудной традиции. Его проза удивительно веселая и динамичная. У него с первой фразы интересно!
Да и сам Домбровский, который был совершенно не похож на страдальца, с его роскошным черным чубом… Зубов, правда, совсем не было, но сам он выглядел всегда очень молодо, как бы законсервировавшись в этой вечной мерзлоте. Когда он повел, насколько я помню, Феликса Светова в какую-то забегаловку и начал с чудовищной скоростью уничтожать котлеты, чекушку и пиво, Светов ― или не он, я сейчас не помню, кто с ним был тогда, ― сказал: «Юра, все-таки помедленнее, я так не могу».
На это Домбровский ответил: «Вы все ни хрена не можете, что я могу». Это, пожалуй, очень применимо к Домбровскому. Никто не хрена не может, что мог Домбровский. Это был совершенно феноменальный сверхчеловеческий тип. И убили-то его в драке, убили его провокаторы, нанесли ему увечья. Он отбился, одного уложил, двое убежали. Феноменальный тип!
Кстати, я очень дружу с его вдовой, она была очень намного младше Домбровского. Он женился на молодой прелестной девушке Кларе Турумовой, она-то как раз хранительница его наследия. Я должен сказать, что общение с ней или записи его голоса, которых много сохранилось, всегда внушают мне какое-то невероятное желание жить. Домбровский много раз говорил, что он, наверно, цыган, потому что какая-то цыганская безбашенность есть в его натуре.
Романы его очень мало похожи на этого бесшабашного, хорошо дерущегося человека, который «любил вид своей руки с финкой», как он вспоминает об этом в рассказе «Ручка, ножка, огуречик». Романы его действительно изобличают европейскую образованность и невероятную отвагу в постановке последних вопросов. В чем главная метафора романа «Обезьяна приходит за своим черепом?». Один из персонажей там говорит: «Мы сидим тут с вами, три интеллигентных человека, рассуждаем о Шиллере и Гете. А представьте себе, что в ваш дом вдруг входит питекантроп и требует назад тот череп, который хранится у вас, у антрополога, в шкафу? Мы сегодня столкнулись с визитом питекантропа».
Действительно, роман Домбровского описывает научную антропологическую коллизию, ― там не названа страна, хотя понятно, что речь идет о Франции, ― связанную с фашистской расовой теорией. Отец главного героя, Леон Мезонье ― антрополог, человек, о котором мы знаем прежде всего то, что он любит красиво говорить и говорит действительно прекрасно. Но ничего, кроме этого, он сделать не может. Правда, он обладает замечательной несгибаемостью, замечательным нонконформизмом. Можно сказать, что отчасти роман Домбровского ― оправдание людей, умеющих говорить красиво, потому что для Домбровского это одно из высших человеческих искусств.
Мезонье гибнет именно потому, что он не согласен слегка подкорректировать расовую теорию. От него всего-то требуется признать, что существует особое сверхчеловеческое племя арийцев, что арийцы с давних времен отличались от людей восточной расы, что существуют черепа. Вы прекрасно знаете, что немецкая расовая теория опиралась на бесчисленные подделки, когда челюсть одного вида приставлялась к черепу другого вида, когда всячески обосновывалась эта арийская теория, вычислялся лицевой угол.
Для Мезонье это было сущим пустяком ― просто признать, что существует высшая раса! Но он на это не готов. Написав в качестве последний конспект собственной антропологической теории о том, что никакой высшей расы не существует, он завещает передать эту книгу в Москву и там напечатать, а сам гибнет.
Но удивительнее всего здесь то, что роман Домбровского не ограничивается констатацией полной несостоятельности арийской теории. К сожалению, Домбровский вынужден подтвердить и то, что антропологический вызов Второй Мировой войны гораздо серьезнее. Нам приходится по-новому подойти к понятию человека.
Там есть еще один персонаж ― Ланэ, ученый-конформист. Можно догадаться, что действие происходит именно во Франции, а для Домбровского падение Франции, ее национальная катастрофа была личной. Он абсолютный франкофил, знаток языка, любитель Вийона, переводчик с французского. Для него мучительно то, что Франция вот так сдалась, что она вот так себя предала. Ланэ ― самый наглядный и, пожалуй, самый назойливый символ абсолютного конформиста в этом романе.
Ланэ ― добродушный толстяк, который, в сущности, ничего и не сделал, только пошел на эту подмену, на предательство. Беда не в том, что он оказался предателем по отношению к Мезонье, даже не в том, что он оказался вишистом по идеологии, что он поддержал коллаборационистов. Беда в том, что он предал науку. Он-то как согласился написать, что арийская раса существует. Почему Ланэ это сделал, а Мезонье ― нет, ведь они, в общем, оба люди?
Мы привыкли, что у человека есть некий нравственный идеал, врожденная мораль, присущая ему изначально. Оказывается, что ничего подобного нет. Вот фрагмент романа, в котором высказаны самые страшные, самые беспощадные слова:
«Разум нашей эпохи находится совсем в иных руках. Он ― понятие отрицательное, а не позитивное. <…> Мы, Войцик, узнали самое страшное и прочное в мире ― пустоту. У одного из наших поэтов есть стихотворение, как называется оно, сейчас не помню, а коротко дело-то вот в чем. В одном языческом храме, в нише, стоит статуя ― истины ли, разума ли, какого-нибудь высшего существа, не помню, да в данном случае это не играет роли. Важно только вот что: статуя эта завешена, и видеть ее могут только жрецы, и то в день посвящения, и вот если они выдержат лицезрение бога, то они и сами станут как боги. Так по крайней мере им обещают. Но тут есть загвоздка: во-первых, это последний искус, и к нему нужно подготавливаться целыми годами, постом, воздержанием, непрерывным самоусовершенствованием, ну и так далее в том же духе, во-вторых, ― и вот это самое главное! ― и после этого только весьма немногие могут посмотреть в лицо бога. А дальше сюжет разворачивается так: перед героем стихотворения в день его посвящения скинули покрывало с ниши, где находилась статуя, и он сошел с ума. Отчего? Вся штука-то в том, что и автор этого не разъясняет. Просто посмотрел, сошел с ума ― и только. Спрашивается: что же он увидел, таящееся под этим покрывалом? Никто этого не знает. Но сказать вам, Войцик, сейчас ― что? Ничего под ним не было! Голая и пустая ниша ― паутина, мокрицы и мышиный помет. Неплохо задумано? Отдерни и любуйся этой черной дырой. Она и есть истина. Ясно, что те встревоженные дурачки, что готовятся увидеть что-то, не выдерживают этого чистого ничто. Но я-то, освобожденный от жалости и чувства добра и совести, я-то выдержу! Я смело смотрю в лицо этой черной дыре и благодарю, что в ней нет ничего, кроме мышиного помета! Знаете, единственное, что мне нравится в евангелии, ― это то, что Христос не ответил Пилату на его вопрос, что есть истина. Но вот я бы ответил, и правильно ответил. Была Германия монархией, стала Германия республикой, была Германия республикой, снова стала Германия монархией, а потом не будет ни Германии, ни монархии, ни республики, а будет все та же черная дыра. Вот и все. Ну, посудите сами: из-за чего тут кричать, страдать, истекать чернилами, слюной или кровью, сходить с ума и закончить чем же?».
Вот это как раз новое состояние человека после Второй Мировой войны (в общем, и после Первой Мировой тоже), состояние, которого, боюсь, никто по-настоящему не отразил и не понял, его попытались очень быстро забыть. Оказалось, что человек действительно оставлен с миром один на один. Того, что творилось во время Второй Мировой войны, никакой бог вытерпеть бы не мог. Кушнер тоже задает этот вопрос:
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?
<…>
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.
Действительно, а где был бог в это время? На этот вопрос нет ответа. Выходит, что человеку приходится либо переменить концепцию бога, либо стоять с миром один на один и, наверно, приходится как-то переформулировать концепцию человека. По роману Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом» обезьяны в человеке больше, вот что самое страшное. Он один сумел сформулировать этот вывод из XX века.
Да, человек в начале века, наверно, подошел к самому значительному, самому высокому порогу. Да, он, наверно, должен был совершить какой-то антропологический скачок, а вместо этого скачка, которого ждал весь XIX век, которого ждал Ницше, а в России ― все во главе с Мережковским, вместо сверхчеловека обнаружилась обезьяна. Она пришла, и это самое страшное.
Почему это получилось? Тут виновата не экономика, не европейская культура, а глубоко сидящее в человеке, непобедимое, неистребимое звериное начало. Когда налет цивилизации слетает, этот зверь актуализуется. Этот зверь бывает разной породы, иногда он повышенно адаптивный, приспосабливающийся к любым условиям, зверь-конформист, как добрейший толстяк Ланэ. Иногда, например, это такой персонаж, как Гарднер, выведенный в этом романе страшный фашистский палач, который получает наслаждение от своей власти над людьми, который наслаждается избавлением от совести. Этот зверь довольно многолик, он не очень примитивен.
Вопрос в том, что быть просто человеком уже стало мало. В новых условиях и новых реальностях, при обладании новыми средствами, при угрозах прогресса человек недостаточен. Этот роман о страшной недостаточности человека. Выдержать может Мезонье. Почему Леон Мезонье, главный герой романа, это выдерживает? Тут у Домбровского тоже очень нестандартный ответ, Домбровский вообще не дает стандартных ответов.
Почему он все время подчеркивает позерство этого героя, его любовь к красивоговорению, его шикарный кабинет, грубо говоря, его понты и снобизм? Потому что ему не все равно, как он выглядит со стороны. Для того, чтобы выдержать искусы этого века, надо смотреть на себя со стороны, любоваться собой, хорошо о себе думать. Тогда у тебя есть шанс. Выдерживает не тот, у кого правильное социальное происхождение или мировоззрение, выдерживает тот, кому не все равно, как он будет выглядеть, как он будет умирать. Поэтому Леон Мезонье ― очень важный персонаж. Сын его, Ганс Мезонье ― такой же, говоря по-современному, понтярщик, но при этом за его понтами стоит храбрость, понимание того, что ему не все равно, как он будет жить и умирать.
Конечно, дописывая и переписывая роман в 1958 году, Домбровский внес туда очень многое из того, что он передумал после Сталина, то, чего он не мог знать в 1944 году. Вопрос, который встает перед ним со всей прямотой, ― это вопрос, который сформулировала Ахматова в 1956: «Две России посмотрят друг другу в глаза: та, которая сажала, и та, которая сидела». Они посмотрели друг другу в глаза и выдержали этот взгляд, у Галича это подробно описано в песне «Желание славы». В очередной раз сработал стокгольмский синдром. Но тогда было непонятно.
Домбровский задает вопрос: а что же будет с палачами? Мезонье встречает палача Гарднера, он узнает его на улице и выясняет, что Гарднер отсидел свое и был выпущен, у него якобы эпилептические припадки, ему можно не досиживать, он тоже как бы помилован и живет, ходит среди людей. Он честно говорит: «Очень многие люди заинтересованы в том, чтобы мне ничего не было».
А почему? Не только же потому, что у фашистов есть много денег или высокие покровители. Нет, не поэтому. Это происходит потому, что человечеству очень выгодно забыть о своем позоре, как будто этого не было, как забывают о своем грехопадении. Ну, был какой-то фашизм, какая-то расовая теория, какие-то заблуждения, но сейчас-то все кончилось и можно жить по-прежнему!
Он предсказал, что в шестидесятые годы всех помилуют. Все палачи будут абсолютно свободны. Может, фашистским палачам какое-то возмездие достанется, и то далеко не всем, а вот советским палачам ничего не будет. Сталинские палачи будут доживать при прекрасных пенсиях. В эпилоге романа, дописанном в 1958 году, все это сказано, пусть по-эзоповски, но достаточно прямым текстом. Люди не захотят стать другими после Второй Мировой войны, они не смогут жить с той правдой о себе, которая открылась им, они предпочтут забыть эту правду.
И в самом деле, после Второй Мировой настало то, что предсказал Домбровский. Настало страшное измельчание человеческой природы. Человек упал в бездну и отползает от нее, стараясь не помнить о ней, замазывать дыры в мировоззрении, потому что выдержать эту правду о себе невозможно. Невозможно быть человеком, зная, что ты обезьяна и что эта обезьяна уже однажды выползала из тебя.
Конечно, легче всего было бы оправдать себя биологическим несовершенством, но Домбровский открытым текстом говорит в романе: у вас есть шанс перестать быть этой обезьяной, но это потребует от вас колоссальной внутренней революции, а на это готовы очень немногие. Например, он на себе провел эту операцию. Этот роман написан человеком, который видел самое страшное и не боится уже ничего.
Что есть в этой книге, так это бесстрашие. Перечитывать ее сейчас очень полезно, когда мы видим, во что превратился человек, как он преступно измельчал, как он отошел от главных вопросов и радостно смирился с обезьяной в себе, как эта обезьяна ликует и подпрыгивает. Вот это на самом деле и есть самое страшное, именно поэтому о книге Домбровского сегодня предпочитают не помнить, но она существует, и мне очень приятно напомнить о ее существовании.
Каким образом Домбровский напечатал книгу в 1958 году? Он напечатал ее довольно просто. Это нам в наше достаточно цензурированное время кажется: «Как так, действительно!». А ничего особенного, если уж Солженицына печатали, то почему было не напечатать роман о европейском человеке в 1958 году? Все думали, что фашизм ― болезнь Европы, понимаете? Очень многие после «Бури» Эренбурга усвоили этот пафос, адресованный Сталину: Европа не выдержала фашизма, а Россия сумела победить его, значит, коммунизм все-таки прав.
Это было напечатано как очередной роман о закате, о деградации Европы. Только Домбровский понимал, что речь идет о человечестве в целом, но, слава богу, это понимание было недоступно партийным редакторам. Они предпочли книгу напечатать и замолчать.