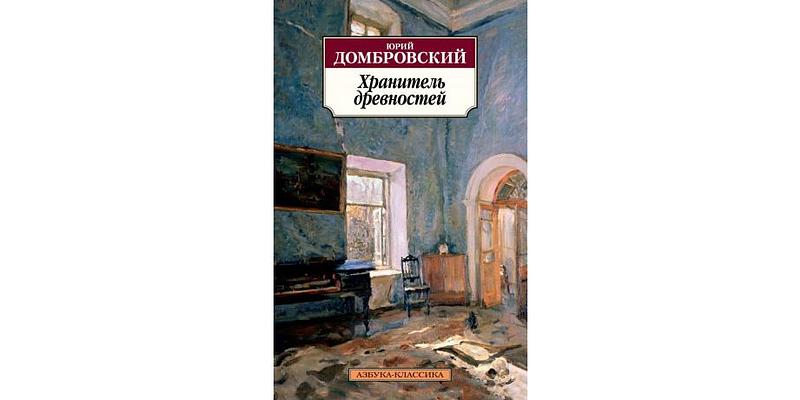Про Достоевского я вообще не хотел бы говорить применительно к роли Христа, потому что Достоевский, по моему глубокому убеждению, Христа не видел, не чувствовал. Он все время пытался на его месте увидеть либо больного, либо какую-то патологию, либо преступника, который на дне своего преступления, как звезду из колодца, что-то такое увидел. Странные какие-то христологические студии Достоевского, появление у него Христа, который целует Великого инквизитора,— это с одной стороны очень логично, а с другой стороны этот поцелуй очень убийственный, амбивалентно это все. Вот желание Алеши Карамазова расстрелять того помещика, который затравил собаками мальчика,— оно, по крайней мере, понятно, оно логично, оно, мне кажется, христианам должно быть как-то понятно.
А вот поведение Великого инквизитора и поведение Христа в этой сцене — Христос, который его целует,— это как-то не очень вытекает из евангельской логики, здесь все сложно. Поэтому говорить о христологии Достоевского, довольно больной, на мой взгляд, и довольно противоречивой внутренне, мы не можем. Не зря он говорит о том, что его вера прошла через горнила небывалых сомнений. Думаю, что это была не вера, думаю, что это были мучительные попытки обретения веры. Именно поэтому Достоевский никогда не принимал поздних исканий Толстого и говорил, что все это не то, а Толстой то же самое говорил о Достоевском. Мне кажется, это какое-то, в общем, не обретение, а блуждание в страшных сумерках собственной души.
Что касается позиции Домбровского… Домбровский же, понимаете, свою христологию не создал. Он рассматривает процесс Христа примерно так же, как Солженицын рассматривает процесс князя Игоря — с точки зрения такой абстрактной юриспруденции. Если там Бродский называл (и не он один, еще и Уайльд в этом направлении много сделал) называл эстетику первичной по отношению к этике, то для Домбровского первичной была идея закона, идея юриспруденции, такая, я бы сказал, христианская юриспруденция. Вот что он пытается сделать. И, конечно, говорить о какой-то трактовке Пилата применительно к Домбровскому мне кажется невозможным. Это именно попытка рассмотреть судебный казус. Попытка, конечно, отчасти пародийная, отчасти смелая и безупречная, но она не вкладывает ничего нового, ничего нового не вносит в образ Христа.
Что касается Булгакова, то здесь я могу только в очередной раз повторить, на мой взгляд, весьма справедливую фразу Мирера о том, что Христос у Булгакова разложен на две ипостаси: на силовую, которая воплощена в Пилате, и на гуманистическую, которая воплощена в Иешуа. Об этом довольно подробно и, на мой взгляд, очень основательно Мирер говорит в своей замечательной книге «Этика Михаила Булгакова».