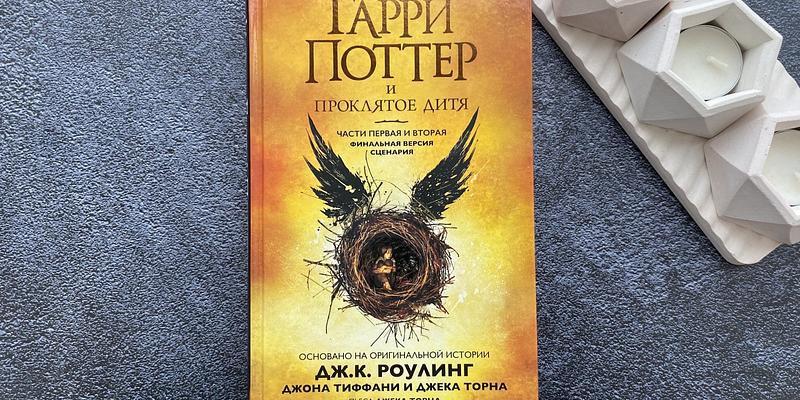Вадим Сергеевич Шефнер был универсально одаренным писателем, автором блистательной лирики и очень хорошей фантастической и мемуарной прозы. Причем фантастическую я ценю выше мемуарной, выше таких его прелестных книг, как «Счастливый неудачник», «Облака над дорогой», «Сестра печали». Мне кажется, что он прежде всего, конечно, фантаст насмешливый, остроумный фантаст. Самая удачная его книга — это «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина», замечательная история, очень метафоричная, такая о едином веществе. Шефнеру была присуща такая горьковатая ирония, которая и окрашивает все его сочинения, которая придает такой трогательности его интонации. У него же действительно всегда такая интонация не победительная, а, что ли, чуть просительная:
Не надо, дружок, обижаться,
Не надо сердиться, ей-ей,
На сверстников и домочадцев,
На дальних и ближних друзей.
Давай лучше жизни дивиться
И в добрые верить дела,
Глядеться в знакомые лица,
Как в праздничные зеркала.
Обиды же — мелочь такая,
Обиды ничтожны стократ
Пред вечными теми веками,
Что всех навсегда разлучат.
Вот трудно без дрожи в голосе читать! У него действительно удивительно нежная, трогательная и человечная интонация (у Шефнера). Он человек принципиальный и сознательно не декларативный, немного даже сентиментальный. Помните:
У ангела ангина,
Он, не жалея сил,
Стерег чужого сына,
Инфекцию схватил.
В морозном оформленье
За домом тополя,
В неясном направленье
Вращается Земля.
До рая не добраться
С попутным ветерком,
И негде отлежаться —
Летай под потолком.
Земная медицина
Для ангела темна.
Ангина ты, ангина,
Чужая сторона!
Это действительно такая сказка для больного ребенка. Она поразительно точно ложится на этот размер, трехстопный этот ямб, задавая во многом его семантический ореол, в котором написано другое, очень сходное по мысли и интонации стихотворение Шефнера:
Голландский бедный мальчик
у грани пенных вод
дрожит и горько плачет,
а с места не сойдет.
Уже припухли гланды
и боль в его груди,
но сгинут Нидерланды,
лишь руку отведи.
С надеждою во взоре,
с печалью и тоской,
он сдерживает море
немеющей рукой.
Ну, это такие стихи о функции поэта, понимаете. Вообще семантический ореол петербургских стихов всегда очень нагляден. И вот двустопный анапест, мой любимый размер, ну, после пастернаковской, конечно, «Вакханалии» вошел в русскую литературу. После двух текстов — пастернаковской «Вакханалии» и Твардовского «Я убит подо Ржевом». А скажем, Бродского «Васильевский остров» — это уже продолжение обеих этих линий, очень точное. А начал вообще Аннинский, «Полюбил бы я зиму» — любимое стихотворение Кушнера, которое он и меня заставил полюбить. Но эти два текста — «Вакханалия» и «Я убит подо Ржевом» — две такие маленькие поэмы, они сюжетообразующие, формообразующие. И Шефнер, продолжая эту линию, замечательно писал. Помните:
Звезды падают с неба
К миллиону миллион.
Сколько неба и снега
У Ростральных колонн!
Всюду бело и пусто,
Снегом все замело,
И так весело-грустно,
Так просторно-светло.
Жизнь свежей и опрятней,
И чиста, и светла —
И ещё непонятней,
Чем до снега была.
Я как раз на «Петербургских стихах», на этом вечере читал, с трудом борясь со слезами, вот это самое мое любимое:
Я, как прочие дети,
Уплатил пятачок.
А потом мой билетик
Оборвал старичок.
К карусельным лошадкам
Он подводит меня.
С карусельной площадки
Я сажусь на коня.
Конь в пожарной окраске,
Хвост клубится, как дым.
Конь бессмертен, как в сказке,
Конь мой неутомим.
Вот мы скачем над лугом,
Над весенней травой.
Все по кругу, по кругу,
По кривой, по кривой!
Развороты все круче,
Все опасней круги.
То взлетаю я в тучи,
То впадаю в долги.
Я старею, старею…
Где мой тихий ночлег?
Все скорее и скорее,
Все стремительнее бег.
Мы летим над больницей,
Над могильной травой.
А Вселенная мчится
По кривой, по кривой.
Шефнер — он носитель вполне материалистического, но при этом по-советски, я бы сказал, неоднозначного мировоззрения. Самый близкий к нему здесь автор — Светлов, который писал: «Мы, признаться, хитрые немного и умудряемся не раз, абсолютно отвергая Бога, ангелов оставить про запас». Для меня Светлов — поэт, конечно, глубоко религиозный и поэт, которому присущи глубокие нравственные искания, как, скажем, в «Итальянце».
Вот и Шефнер — такой советский метафизик. Он, конечно, атеист, но при этом ангелов он оставляет. И мир его сказочен. Отсюда его тяготение к фантастике. Вот возьмите, например, одно из самых моих любимых стихотворений «Милость художника», глубоко религиозная вещь:
На старинной остзейской гравюре
Жизнь минувшая отражена:
Копьеносец стоит в карауле,
И принцесса глядит из окна.
И слуга молодой и веселый
В торбу корм подсыпает коню,
И сидят на мешках мукомолы,
И король примеряет броню.
Это все происходит на фоне,
Где скелеты ведут хоровод,
Где художник заранее понял,
Что никто от беды не уйдет.
Там, на заднем убийственном плане
Тащит черт короля-мертвеца,
И, крутясь, вырывается пламя
Из готических окон дворца.
Там по небу ползет, как по стеблю,
Исполинский червец гробовой,
И с небес, разбиваясь о землю,
Боги сыпятся — им не впервой.
Там смешение быта и бреда,
Там в обнимку — Чума и Война;
Пивоварам, ландскнехтам, поэтам —
Всем капут, и каюк, и хана.
А мальчишка глядит на подснежник,
Позабыв про пустую суму,
И с лицом исхудалым и нежным
Поселянка склонилась к нему.
Средь бед и печалей несметных,
Средь горящих дворцов и лачуг
Лишь они безусловно бессмертны
И не втиснуты в дьявольский круг.
Это стихотворение, которое совершенно не содержит советского атеизма, советского материализма, диамата всяческого. Это стихотворение, которое принадлежит к такому советскому символизму, как говорила Слепакова. И в этом, мне кажется, вот есть удивительный синтез, да, казалось бы, таких советских добродетелей, то есть как бы скромности, отсутствия лишнего пафоса, столь присущего советской психологии. Пафос был достоянием пошляков. И при этом удивительно глубокая, сложная и ищущая мысль.
Фантастика Шефнера сказалась как-то, конечно, и в стихах, потому что вот «Приключения фантаста» — одно из самых знаменитых его стихотворений — я включил его в свое время в сборник «Страшные стихи». Это классический пример страшного стихотворения, готического. Оно ещё называется в одной из публикаций «Фантастика». И это тоже, в общем, очень характерно. Двенадцать строчек, в которых есть уже готовый сюжет. Уже по первой строчке (к вопросу о том, что первая строка всегда определяющая в хорошем стихотворении), уже по первой строчке ясно, что будет страшно и здорово, и интересно.
Как здесь холодно вечером, в этом безлюдном саду,
У квадратных сугробов так холодно здесь (замечательный повтор) и бездомно.
В дом, которого нет, по ступеням прозрачным войду
И в незримую дверь постучусь осторожно и скромно.
На пиру невидимок стеклянно звучат голоса,
И ночной разговор убедительно ясен и грустен.
— Я на миг, я на миг, я погреться на четверть часа.
— Ты навек, ты навек, мы тебя никуда не отпустим.
Ты все снился себе, а теперь ты к нам заживо взят.
Ты навеки проснулся за прочной стеною забвенья.
Ты уже на снежинки, на дымные кольца разъят,
Ты уже в зеркалах не найдешь своего отраженья.
Понимаете, пятистопный анапест — это размер такой, вообще соответствующий ощущению элегического ужаса, готической печальной мрачности. Но здесь готовый сюжет. Где он? В каком он мире? Конечно, он среди своего прошлого. Он, так сказать, попал в смерть, заживо взят в забвение. Вот этот безлюдный сад петербургский (ну, кто в нем не бывал, не поймет) — это образ, конечно, идущий от пантелеевского «Честного слова». Это довольно устойчивый инвариант или, если умно говорить, довольно устойчивый хронотоп петербургской литературы — пустынный сад. Кто бывал в Летнем саду перед закрытием или после, помните, «Честное слово» Пантелеева, где в общественном парке заперт (там запирают этот парк) маленький мальчик, который стоит на часах. Автобиографический рассказ, с самим Пантелеевым так было. Он и был такой мальчик на часах своей чести, русской литературы, своей веры. Глубоко религиозное произведение.
Так вот, у Шефнера эта атмосфера опустевшего запертого сада, в котором остался последний посетитель,— это стартовая ситуация фантастического произведения, где он оказался заперт в своем прошлом. Представьте, как холодно вечером, как страшно в этом снежном безлюдном саду, в каком-нибудь из садов Павловска или Пушкина, или Петрограда. И вот ты входишь в этот невидимый садовый павильон либо в домик садовника, неважно, и там оказываешься среди своего прошлого. И ты заперт, и тебе нет возвращения, потому что ты уже за прочной стеной забвения, «ты уже в зеркалах не найдешь своего отраженья». Человек, попавший в свое прошлое. Мы думаем, в прошлом хорошо. А там ничего хорошего, там хаос.
Тут, кстати, Олег хороший вопрос задал: «А вот почему хаос считается злом, а порядок — добром? Ведь в хаосе больше возможностей».
А вы попробуйте представить в своей личной жизни, что бы вы предпочли — хаос или порядок? Порядок тоже бывает страшен, но хаос означает отсутствие какой-то доминирующей воли, в конечном итоге — отсутствие смысла. Вот в прошлом его нет, прошлое погружено в хаос. Там нет, как говорил Самойлов, «нет времени и воли». А где нет времени и воли, там нет смысла. Поэтому попасть в прошлое так страшно.
Из других стихов Шефнера тоже о попадании в прошлое… Понимаете, вот у него это довольно устойчивая тема. Гениальное стихотворение «Есть в городе памяти много домов». А я его прочту, пожалуй, тоже по старой памяти, но немножко заглядывая в текст. Но хочу ещё вспомнить…
Я иду над зарытым каналом,
Я вступаю на старенький мост.
Он теперь…
Как тяжелый ненужный нарост.
Сколько тысяч моих отражений
Закопали в канальной воде…
Неужели теперь, неужели
Нет меня уже больше нигде?
Торопясь под вокзальные своды
И навек разминувшись со мной,
Молодые идут пешеходы
По утоптанной тверди земной.
Вот это все, что осталось от прошлого, потому что все прошлое — это зарытый канал, забытый.
Надо вообще сказать, что Вадим Сергеевич прошлое ощущал очень живо и болезненно, но понимал, что в нем спасения нет. И он не мечтал туда вернуться. Вот это, мне кажется, очень хорошо его характеризует. Потому что архаика — она вампир, она воскресает и поглощает.
Вот «Переулок памяти», гениально сделанные стихи:
Есть в городе памяти много домов,
Широкие улицы тянутся вдаль,
Высокие статуи на площадях
Стоят и сквозь сон улыбаются мне.
Есть в городе памяти много мостов,
В нем сорок вокзалов и семь пристаней,
Но кладбищ в нем нет, крематориев нет,
Никто в нем не умер, пока я живу.
Есть в городе памяти маленький дом
В глухом переулке, поросшем травой;
Забито окно, заколочена дверь,
Перила крыльца оплетает вьюнок.
Когда это дело случится со мной,
С проспектов стремительно схлынет толпа
И, за руки взявшись, друзья и враги
Из города памяти молча уйдут.
И сразу же трещины избороздят
Асфальт и высокие стены домов,
Витрины растают, как льдинки весной,
И башни, как свечи, начнут оплывать.
Здесь четвертая… то есть пятая строфа здесь почему-то выброшена, хотя я её сейчас найду все равно. Она там была, и в ней-то собственно и есть вся суть. Ну, там: «За руки взявшись, мы выйдем с тобой из города памяти… тра-та-та… оглянемся — города нет за спиной. Когда-нибудь это случится со мной».
Вот эта метафора избавления от памяти как смерть — это великое, конечно, наблюдение. Хотя я почему-то убежден, что для Шефнера смерти не было, и мысль о смерти для него не существовала. По воспоминаниям его сына Михаила, он перед смертью все просил читать его Блока. Наверное, вот какой-то символ поэтического бессмертия в нем был, какое-то утешение он черпал в нем. И, кстати говоря, ощущение, что что-то умирает навсегда, в его поэзии тоже нет. Ну, помните вот «Письмена», знаменитое стихотворение:
В этом парке царит тишина,
Но чернеют на фоне заката
Ветки голые — как письмена,
Как невнятная скоропись чья-то.
Осень листья с ветвей убрала,
Но в своем доброхотстве великом
Вместо лиственной речи дала
Эту письменность кленам и липам.
Только с нами нарушена связь,
И от нашего разума скрыто,
Что таит эта древняя вязь
Зашифрованного алфавита.
Может, осень, как добрая мать,
Шлет кому-то слова утешений;
Лишь тому их дано понимать,
Кто листвы не услышит весенней.
Вот это ощущение, что мир — это тайнопись, но предназначенная не всем, а только обреченным. В этом есть какое-то великое прозрение.
И я знаю, что вот сейчас меня Женя Марголит слушает, один из моих любимых собеседников и сочитателей стихов. И нельзя, конечно, не прочесть.
Налегай на весло, неудачник!
Мы с тобою давно решены,—
Жизнь похожа на школьный задачник,
Где в конце все ответы даны.
Но ещё до последней страницы
Не дошли мы, не скрылись во мгле,
И поют нам весенние птицы
Точно так же, как всем на земле.
И пока нас последним отливом
Не утянет на темное дно,
Нам не меньше, чем самым счастливым,
От земли и от неба дано.
Можно подумать, что это сознательное приуменьшение себя, что в этом смирении у Шефнера есть даже некоторый перебор. Но с другой стороны, в этом-то и есть его величие, что провозгласить себя неудачником, понимаете, не каждый рискнет. И неудачник он, счастливый неудачник в повести — это довольно замечательная была картина, кстати, экранизация. Друг мой Сема Мендельсон гениально там сыграл, замечательный артист. Это очень важная вещь для Шефнера. Провозгласить себя неудачником — это значит всего лишь подчеркнуть свое аутсайдерство, свое нежелание участвовать в этой гонке, свое желание продолжать собственный, пусть обреченный путь. Да, это гордая позиция. И вовсе в ней нет сознательного приуменьшения себя. Шефнер, конечно, себя ограждал от патетики. В последнем его стихотворении, предсмертном:
Кому-то снятся самовары,
Кому-то — новые штаны,
Кому-то — вещие кошмары
И… какие-то апокалиптические сны.
Наизусть это я уже не помню. В этой смиреной позиции есть свое величие и свой гордый вызов.
Понимаете, конечно, нельзя не вспомнить гениальные его все эти шутки и придумки в «Девушке у обрыва» — все эти МОПСЫ, ПУМЫ, другие агрегаты, так смешно названные, ЭСКУЛАПППЫ, САВАОФЫ. Замечательные термины Чепьювин и Чекуртаб — Человек, пьющий вино, и Человек, курящий табак.
Будущее, по Шефнеру, было не таким беспечальным, как у Стругацких, и более прозаическим, но в этом будущем все-таки торжествовала человечность. И поэтому Ковригин, противопоставленный Светочеву, с его наивностью и мещанством, и обывательством, в нем тоже есть своя прелесть. И то, что Шефнер ни от кого ничего не требовал, а всего лишь просил быть людьми,— это очень важно.