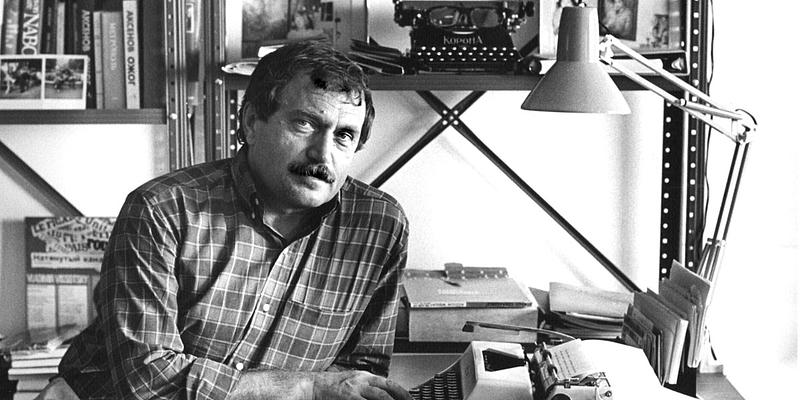Кавафис долго жил вне Греции. Замечательно знал английскую поэзию, французскую, итальянскую, немецкую. И вообще он европейский человек в широком смысле слова. Но, как великий греческий лирик, он отражает именно ключевую греческую проблему. И, как ни странно, эта проблема у него стала общеевропейской. Просто греческий случай наиболее нагляден.
Кавафис — поэт трагического вырождения. Вот была великая античная культура — прежде всего греческая. Греческая культура до сих пор довлеет всей стране, до сих пор служит ее основой, основой ее идентичности. Но случилось так, что она выродилась.
Вот у него есть гениальное стихотворение о старике, который сидит в кафе, смотрит на свою старческую руку и думает: «Куда я дел свою жизнь?». Этот образ немного сродни лермонтовскому «Умирающему гладиатору». Вообще главная тема Кавафиса — это вырождение европейской культуры. Великой европейской культуры, которая сидит, смотрит на свою старческую руку и думает: «Господи, что же со мной будет?».
Самое известное его стихотворение (конечно, благодаря роману Кутзее, но и до этого романа) — это «В ожидании варваров». Сенат не работает, тиран ничего не делает, а мы всё сидим и ждем, когда придут варвары. А варвары взяли и не пришли. И что же нам теперь-то делать? Потому что это был бы хоть какой-то выход.
Надо, кстати, сразу сказать, что мне представляется большой глупостью переводить Кавафиса, не зная греческого. Так сложилась моя судьба, что в моей жизни было несколько людей, греческий знавших и объяснявших мне особенности новогреческого стихосложения.
Кавафис пишет очень своеобразным размером, который лучше всего передает Шмаков. Он отчасти близок, кстати, к размерам античности, которые музыкальны, но свободны от рифмы и от размера, нерегулярные, как знаменитая алкеева или сапфическая строфа. В них есть музыка. Но это музыка, пришедшая из других времен, когда ритм был менее регулярным и менее техническим, а более, что ли, воздушным и зыбким. Это колебание моря слышится в его текстах.
Кавафис вообще поэт очень морской. Когда море бьет в берег, нельзя сказать, что его прибой неритмичен. Но он не строго регулярен — он более зыбок, более шатак. И его стихи написаны таким качающимся дольником. При этом там есть и рифмы, и созвучия. И когда ты это слышишь в чтении, это, конечно, необычайно сладкозвучно.
Но я не понимаю, как можно переводить Кавафиса, не зная оригинала. Именно поэтому лучшие переводы, конечно, Шмакова, который глубоко знал Кавафиса. Они отредактированы Бродским, в них появились какие-то элементы дольника Бродского и элементы афористичности Бродского. Кавафис совершенно неафористичен, вот что удивительно. Он именно печально рефлексирует. В нем есть такая левантийская печаль, средиземноморская, вообще морская.
Ведь понимаете, почему Кавафис такой именно морской поэт? Дело в том, что человек, живущий у моря, постоянно рассматривает себя в соседстве вечности. И это заставляет его к своей маленькой частной жизни относиться гораздо более скептично — с легкой такой, немного высокомерной, немного презрительной грустью. Понимаете, он смотрит на историю, которая миновала, с таким же чувством, с каким глядят на морскую волну: да, это было прекрасно, но всё. Ну смотрите:
«Итак, увидав, в каком пренебреженье
Боги у нас…» — спесиво он утверждал.
В пренебреженье. А чего он ждал?
По-своему он перестраивал дела богослуженья,
По-своему верховного жреца галатского и прочих
В посланиях учил, и наставлял, и убеждал.
Но не были христианами друзья
У кесаря. И в этом была их сила.
В отличье от него (христианина
По воспитанью), их уму претило
Бессмысленно перенимать для древней веры
Нелепое в основах устроенье
У новой церкви. Греками они
Остались. Ничего сверх меры, Август!
Вот это греческое чувство гармонии, греческое чувство равновесия — ничего сверх меры… Кстати, «ничего слишком» — это римское речение, которое он обращает к римлянам же, показывая им, что сами-то римляне чрезмерны во всём. Напоминаю другие стихи другого автора:
И когда пресловутые римляне
По-гречески заговорили,
Это римлянам подошло как корове седло,
А хваленое их достоинство
В этом случае не помогло.
Совершенно очевидно, что чувство греческой гармонии не было римлянами освоено, оно им не далось. Покоренные греки остались недостижимыми, недосягаемым. Вот «Эдип» — тоже дивное стихотворение:
Ужасный Сфинкс набросился внезапно,
Оскалив зубы, выпуская когти,
Собрав в бросок всю жизненную силу.
И наземь пал Эдип, не сдержав напора,
Испуган появленьем слишком скорым.
Подобное обличье, речь такую
Едва ли мог вообразить он себе доселе.
Но хоть и упирались страшные лапы
Чудовища столь тяжко в грудь Эдипа,
Он скоро собрался с силами и нисколько
Теперь не страшился чудища, ибо знал он
Отгадку издавна и ждал победы.
Однако торжество ему не в радость.
А взор его, исполнен мыслью скорбною,
Не обращен на Сфинкса, смотрит дальше
Эдип — на дорогу, ведущую в Фивы,
Ту, что найдет завершенье свое в Колоне.
Предчувствие говорит душе его ясно,
Что Сфинкс к нему там вновь с речами обратится,
С куда труднейшими в своем значенье
Загадками, на которые нет ответа.
По-моему, абсолютно великое стихотворение. Вот это чувство, что нет конца странствию (ведь и Одиссей, когда он достигнет Итаки, должен будет идти дальше) и что нет победы над Сфинксом, и что Сфинкс будет еще и еще раз слетать с новыми и новыми загадками, что странствие окончится в Колоне — вот это чувство у него всегда присутствует.
Понимаете, Кавафис — это человек бесконечно одинокий, уязвленный и печальный. И дело не в пресловутой принадлежности к пресловутому меньшинству, а в ощущении человеческой участи. В гармоничном ощущении человека, который живет у моря и знает, как все ничтожны рядом с ним. Но хорошо, по крайней мере, что оно рядом.