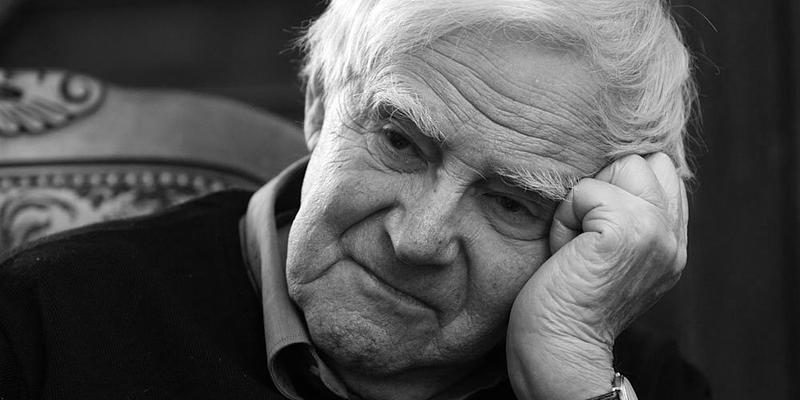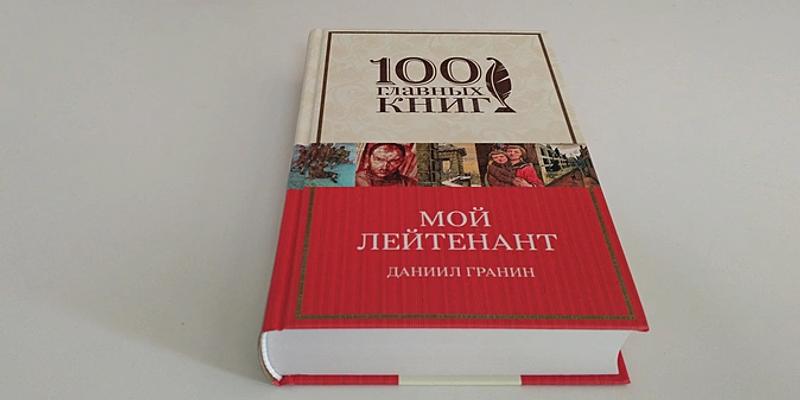За разговорами о его патриаршеском статусе, о его гражданской смелости, для меня в общем довольно ограниченной, и о его, так сказать, отношениях с властью, частью которой он был в семидесятые, совершенно стирается главный вопрос — а что он был за писатель? Вот это, на мой взгляд, заслуживает довольно серьезного анализа.
Значит, Гранин, давайте сразу отметем его участие в судьбе Бродского, может быть, не всегда радужное, его политические взгляды, его войну, хотя он написал о ней замечательно и о блокаде сказал много правды. Он первый сказал, что город можно было взять, что его бы не удержали, но почему-то это не сделали. Вот вопрос роковой, когда он с позиций доехал домой на последнем трамвае, а город в октябре 41-го года был открыт! Он первый об этом заговорил! Многие, конечно, с этим не согласились, пытались его заткнуть. Но эту тему мы отметем, расскажу о Гранине как о типе писателя.
Гранин по профессии инженер, по интересам классический технарь, физик. Он лучше многих понимал закономерность развития науки, он был упертым достаточно и стойким атеистом. Он — типичный человек просвещения. А просвещение — это, скажу я вам, довольно специальная идеология. Ну как модерн, как модернизм. Для людей этой породы эмоции традиционно значат меньше, чем факты. И поэтому эмоциональная жизнь гранинских героев, она довольно скудна, и в романах его, таких например, как «Картина», главную роль играют всегда (и «Вечера с Петром Великим» или «Бегство в Россию») идейные мотивы, а не эмоции.
Гранин холодноват, суховат, сдержан. У него был период — «Искатели», «Иду на грозу» — период довольно таких, я бы сказал, жизнерадостных и инфантильно-веселых романов. Это не самое сильное в его творчестве. Кстати, обратите внимание, что герой «Иду на грозу», он от любви там начинает страдать, но потом понимает иррациональность этих страданий. И действительно, в женской психологии черт ногу сломит. Герой Гранина — рационалист, который занимается любовью тогда, когда это ему физиологически нужно, но в любви не ищет смысла жизни, не ставит души на эту карту. Именно поэтому любовь в его романах, она или прохладна, так стилистически нейтральна, или трагична. Потому что женщина там всегда, ну, как в повести «Дождь в чужом городе» — это начало такое опасно-деструктивное для чистого мыслителя. Он должен, у него есть абсолютный приоритет дела.
И Гранин был человеком дела. В этом смысле упреки в том, что он действовал часто применительно к подлости, а иногда и на посту своем в качестве писательского секретаря допускал известный конформизм — это норма жизни, потому что для Гранина важно было действовать с минимальными затратами и максимальным результатом, в этом смысле он был прагматик. И, действуя таким образом, лавируя, он достигал максимального результата. Он умудрился в перестройку, при первом её начале, напечатать «Зубра» и вернуть имя Тимофеева-Ресовского (которое правда, в первом варианте книги вообще не упомянуто), вернуть имя Тимофеева-Ресовского в контекст. Там упомянуто подспудно, в намеках, ещё мы не знаем, кто такой «Зубр», когда читаем эту вещь.
Замечательная, кстати, художественная манера, замечательный пример эстетической техники — написать о человеке, не называя его. Это, конечно, сравнимо с подвигом Дю Морье, написавшей «Ребекку», где главная героиня безымянна, мы знаем только, что у нее красивое имя.
Значит, Гранин добивался максимального результата, лавируя. И «Блокадную книгу» Гранину и Адамовичу удалось напечатать только потому, что у Гранина был достаточно высокий статус в Ленинградской писательской организации, иначе половина фактов, которые там упомянуты, вообще не появились бы никогда в печати. Ему не позволили упомянуть о каннибализме, о людоедах, которые множество было в городе, о матери, которая выкармливала одного ребенка мясом другого — об этом ему не разрешили написать, он это собирал без надежды на публикацию. Но напечатать некоторые дневники ему разрешили, и это, безусловно, было результатом позиционной борьбы.
Точно такая же позиционная борьба ощутима практически во всей его прозе шестидесятых-семидесятых. Мне представляется наиболее удачным его произведением «Место для памятника», маленькая фантастическая повесть о человеке, который свершил открытие, но не может ничем его обосновать. Зато он знает, что в будущем ему, как открывателю, будет поставлен памятник, и он видит форму этого памятника, он там парит, никак не подвешенный, в кольце. Он как бы победит гравитацию.
Это замечательная мысль о том, что главная трагедия человека будущего — это невозможность найти доказательства. Он чувствует, что он велик, что он совершил открытие, что через него проходит время. Помните, этот изобретатель был весь в прыщах вообще, потому что время через него шло и его уродовало, это замечательная догадка. Гранин в этом смысле конечно, изобрел замечательную фантастическую коллизию, описал муки человека, который принадлежит будущему и живет в настоящем. В этом смысле он, конечно, писатель замечательный.
И вот ещё одна довольно интересная коллизия в его жизни: будучи таким холодным, сугубо рациональным человеком, обдавая этим холодком всех, кто с ним общался — а он довольно сильно держал дистанцию, в интимные откровения ни с кем не входил, вообще был человек очень закрытый — он, невзирая на это, в 1986 году стал основателем движения «Милосердие».
Как это вышло? Он упал на улице, сломал ключицу, повредил лицо, и его принимали за пьяного, его не узнавали, никто не мог ему помочь. У него, кстати говоря, была, невзирая на все его патриаршество, довольно заурядная внешность, он никогда не пытался выглядеть пророком, никогда не заботился о своей внешности. Ну старичок и старичок, ну упал где-то, а может, пьяненький. И вот только одна женщина увидела его, отвела к себе домой, позвонила, вызвала врача, отвезла его в больницу. И вот тогда он заговорил о милосердии.
Он всегда, в общем, был все-таки сторонником гуманизма, и никогда не был сталинистом, и не случайно его слава началась на волне оттепели. Но вот именно о милосердии, о важности душевной мягкости, эмпатии он заговорил в 1986-м. Я очень хорошо помню большой вечер ленинградских писателей в Домжуре, это приехали авторы «Невы» в главе с Никольским, приехал Житинский, приехал Кушнер, приехал Гранин, а от Стругацких не смог приехать Борис Натанович, поэтому пришел Аркадий Натанович, который читал фрагменты из «Хромой судьбы», вскоре напечатанной в «Неве». Потрясающий был состав звездный, был переполненный зал.
И вот там Гранин неожиданно для всех, холодный и рациональный Гранин, заговорил о том, что главной ценностью является сострадание и что сейчас нам в обществе нужно добиваться только одной перемены — чтобы люди стали друг другу не безразличны. Мы успеем сказать всю правду, мы успеем разоблачить, но сейчас важно не разоблачать, а сейчас важно проявить друг к другу сострадание. Вот это понимание было для него очень важной темой.
Конечно, можно сказать: «А вот Гранин надеялся, что все проявят понимание к нему»,— сейчас полно же таких желающих, таких скороспелых судей. Но я помню, что тогда эти слова, прозвучавшие весной 1986 года, были очень значимы, значимы прежде всего потому, что действительно разговоров о милосердии в это время не велось. Это было немилосердное общество, это было страшное общество, довольно жестокое.
Гранин попытался привлечь внимание к главной проблеме — люди перестали видеть друг в друге людей. Идеологическое противостояние стерло все человеческие вещи. И именно в этом обществе, лишенном милосердия, стали уже в девяностые годы разворачиваться сначала политические, не на жизнь, а на смерть, а потом братковские войны. Так что диагноз он поставил верный.
Из всей документальной прозы Гранина, а у него было довольно много документальных повествований, наибольший интерес представляет повесть «Эта странная жизнь», которая сейчас несколько подзабылась, мне кажется, на фоне его довольно разнообразных постсоветских функций, действительно такой функции духовного патриарха.
Вот главный герой это вещи, Любищев, реальное лицо, человек, который поставил свою жизнь на конвейер, жесточайший график соблюдал, каждую секунду жизни протоколировал — это тоже очень важная для того времени фигура. Почему? Потому что вы понимаете, что в семидесятые годы вообще существует культ науки, а будем говорить точнее — паранауки, самая популярная передача — «Очевидное — невероятное». От ученого, как от авгура, ждут советы на все случаи жизни. И Гранин — писатель вот этой прослойки. Писатель, который интересуется бытом ученых, сумасшедшими открытиями, эйнштейновскими теориями, голограммами, чуть ли не телепатией. Здесь грань, отделяющая паранауку от науки, была очень тонка, но он никогда её не пересекал.
Вот герой «Этой странной жизни» — это именно ученый того типа, который тогда маниакально волновал общество. От ученых ожидали откровения: и медицинского, и физического, и какого хотите. И вот идея Гранина заключалась в том, чтобы человека идеально подчинить разуму, изобрести, изобразить персонажа, который слушается только логики. Жизнь действительно странная, поскольку Гранин приходил в результате к очень сложному и странному выводу — оказывалось, что гуманнее всех оказывается тот, кто умнее всех. Я был в этом смысле с ним согласен.
Конечно, как и герои Лема, духовно очень близкого ему автора, он страдал иногда от некоторой эмоциональной скудости и сам был жертвой своей холодности, но в огромной степени, тем не менее, его утешал сильный разум. Я думаю, что в наши времена вот эта апология разума, она особенно необходима.
Что касается его деятельности и статуса в последние годы. Конечно, в России есть такая удивительная черта, что выслуга лет здесь является индульгенцией. Кстати говоря, я полагаю, что и слава академика Лихачева во многом базировалась на том, что он так долго прожил в России. Человека, долго живущего, начинают очень уважать. Но, с другой стороны, понимаете, помимо знаменитой фразы Чуковского «Жить в России надо долго», в России вообще любой, кто долго прожил, наверное, заслуживает уважения, уже хотя бы потому, что сил, сопротивляющихся вашей жизни слишком много. И то, что так долго прожил Лихачев, сделало его абсолютным гуру, я думаю, что его научные заслуги были тут в огромной степени не при чем, а как моралист он извлекал главным образом банальности.
Но удивительное дело, что Гранин в своем статусе патриарха как раз банальности не говорил. Вот это будет, я думаю, припоминаться. Потому что смотрите: Гранин первый заговорил об удивительных особенностях блокады, о том, почему город не взяли. Гранин первый заговорил о том, что Россия была не готова к войне, прежде всего психологически: «Мы в немцах видели друзей, мы с ними два года перед этим обнимались». Он заговорил об огромной, растлевающей, дезорганизующей, дезориентирующей силе пакта. И пакт, который многим сегодня представляется чуть ли не вершиной государственной мудрости, он первым разоблачил не только как аморальный фактор, но и как фактор, который противоречил мобилизации.
В немцах видели друзей, и многие не могли поверить, Гранин рассказывал эту замечательную историю, что только когда впервые они увидели пленного немца и этот немец стал разговаривать с ними высокомерно, как с нелюдями, как с обреченными — вот тогда они поняли, с какой машиной имеют дело. До этого огромное количество людей верило и в классовую близость, и в немецкий пролетариат, и в то, что национал-социализм — это все-таки сначала социализм, а уж потом национал.
Дело было, говорил Гранин, не в техническом недовооружении, не в том, что у нас были плохие винтовки и не хватало оружия, и вообще, поэтому ленинградское и московское ополчение было выбито процентов на восемьдесят. Проблема в другом: люди психологически не были подготовлены к тому, что им противостоят нелюди, потому что правды о фашизме в последние два года перед войной не говорили. Это было замечательное откровение в своем роде.
Ну и естественно, что Гранин все-таки противостоял паранауке, противостоял исторической паранауке в том числе, защищал историю от мифологизации, и это все делал довольно отважно.
Я понимаю, конечно, что статус патриарха в таком обществе консервативном, как наше — это большой соблазн. Всегда есть соблазн начать говорить очевидные вещи и считать себя гением. Интересно, что Гранин как раз себя литературно оценивал довольно скромно. Он большим писателем себя не считал, и когда я его спросил, в чем секрет его долголетия, он сказал: «Во всяком случае, я не связываю это со своими заслугами. Я думаю, мне помогает рационализм». Он абсолютно точно все про себя понимал.
Поэтому при всех своих сделках с советским дьяволом в разное время, и с системой, потому что система была далеко не только дьявольская, при всех своих сделках с официозом он себя сохранил. И мне кажется, что его жизнь может для многих послужить довольно утешительным примером. И конечно, надо его читать и перечитывать, потому что сама его суховатая, прохладная, разумная интонация способна остудить многие горячие головы и многим внушить мужество.
Если говорить об его экранизациях. Экранизации почти все у него были хорошие, в частности «Иду на грозу», но самые удачные, на мой взгляд, конечно, «Однофамилец» со Жженовым и Пляттом. Оттуда эта знаменитая реплика: «Не вози царя»,— потому что когда убивают царя, то убивают и кучера.