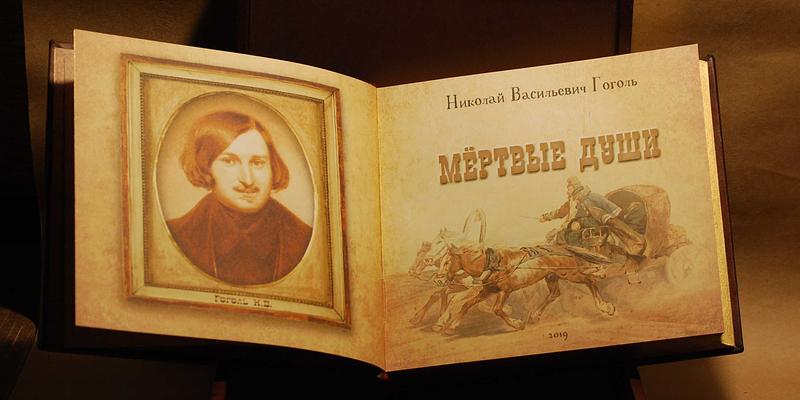Это настоящий литературный дебют Исаака Бабеля, мало кем замеченный, кроме тогдашних блюстителей нравственности, состоялся в 1916 году в журнале «Летопись», когда рассказы двадцатидвухлетнего Бабеля напечатал Горький. И тут же Бабелю был вменен иск за порнографию. Но поскольку революция произошла год спустя, никаких последствий для него это не имело.
Первая заслуживающая внимания его публикация, куда вошли лучшие рассказы «Конармии», в том числе знаменитая «Соль», осуществилась в «Лефе» с подачи Маяковского. Маяковскому в 1924 году в Одессе показали бабелевские рассказы, он необычайно проникся, до такой степени, что обожал читать его вслух. Пьесу «Закат», по воспоминаниям Павла Лавута, он читал вслух при первой возможности. Оказывался в купе с приятелем ― читал ему, заманивал гостей в Гендриков ― читал им.
Точно так же он несколько раз читал со сцены рассказ «Соль», который поражал его точностью в передаче интонаций. Он наслаждался самой фактурой бабелевского слога, удивительной, несколько карикатурной и шаржированной, но тем не менее абсолютно точной речевой маской страшного красноармейца Никиты Балмашева, который в рассказе «Измена» призывает всех подозрительных расстреливать: «Измена ходит в нашем дому, измена сняла сапоги, чтобы не нарушать тишины». А вот в рассказе «Соль» он расстреливал спекулянтку: «И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики».
Бабель вообще замечателен этой абсолютной драматургической точностью и пластикой воспроизводства чужой речи, но именно это чаще всего отвлекает наше внимание от действительно грандиозных проблем, которые он ставит. Собственно говоря, как характеризуют у него Беню Крика, Беня говорит мало, но смачно, хочется, чтобы он сказал что-нибудь еще. Точно так же и Бабель говорит смачно, и мы за красотой, за совершенством его прозаической пластики совершенно забываем о том зверстве и кошмаре, который он рисует.
Генезис Бабеля довольно сложен. Существовала эпиграмма, приписывавшаяся Флиту: «Под пушек гром, под звоны сабель от Зощенко родился Бабель». Считалось, что Бабель действительно восходит к зощенковскому сказу, к зощенковской передаче чужой речи, но, конечно, корни Бабеля гораздо глубже. На формальном уровне, я думаю, его манера восходит более всего к Талмуду, к Библии. Не случайно он получил талмудическое образование, кстати говоря, лет в шесть-семь знал иврит значительно лучше русского. Получил сугубо книжное образование, французский тоже знал очень неплохо, а по-русски начал писал в 12-13 лет. Как он пишет, «удавался мне только диалог».
Вторая составляющая его прозы ― это, конечно, французский натурализм, прежде всего Золя, в некоторой степени очень им любимый Мопассан. Бабель написал прекрасный рассказ о том, как он его переводил вместе с графоманкой. Удивительно, что этот синтез бесстыдства библейского, как это называл Пушкин, «библейская похабность», и бесстыдства французской прозы вместе порождают небывалую по откровенности и точности, по эротизму, физиологичности прозу Бабеля. Как совершенно правильно говорил о нем Воронский, «мир Бабеля ― это кровь, слезы, пот и сперма». Да, действительно, это так.
Но при всём при этом я думаю, что если рассматривать непосредственных предшественников Бабеля, мы же знаем, что в русской литературе все циклично. Все персонажи воспроизводятся. Скажем, Блок повторяет судьбу Жуковского, потом Окуджава повторяет его судьбу. Пастернак во многих отношениях занимает пушкинскую нишу и сам пишет об этом «Стансы», рифмующиеся с пушкинскими. Эта цикличность так или иначе всеми осознается. Солженицын и Достоевский копируют друг друга странным образом, как два зеркала.
Таким же образом у Бабеля есть один предшественник, совершенно очевидный. Вы с легкостью назовете его мне. Это книжный человек, который за 100 лет до Бабеля попробовал полюбить людей брутальных, широких, страшных, попробовал описать такой же пьяный и шумный интернационал, который орудует примерно в тех же местах, в среде западного славянства, непосредственно на польской границе. Человек, который с восторгом и ужасом описывает этих могучих кентавров, этих всадников, полуживотных-полулюдей, полубогов, которые лишены, наверно, традиционной морали, но зато у них свои очень жесткие представления о чести. Кто же этот книжник, создавший свой страшноватый казачий эпос?
Существовал классический анекдот о том, каков образовательный минимум просвещенного человека: «Не путать Гоголя с Гегелем, Гегеля с Бебелем, Бебеля с Бабелем, Бабеля с кабелем, кабеля с кобелем, а кобеля с сукой». Это прожиточный минимум интеллигента. Так вот, в том и заключается трагедия, что Гоголя с Бабелем по некоторым параметрам действительно легко спутать. Я назвал бы два самых страшных параметра. Первый, что для меня очень принципиально здесь, потому что речь идет о честном художнике, о честной поставленной перед ним задаче, ― он честно пытается полюбить этот абсолютно чуждый ему мир. Трудно представить себе что-нибудь более далекое от запорожского качества, чем Гоголь. Застенчивый Гоголь, помните, Кушнер о нем писал: «Не то что раздеться, куска проглотить не мог при свидетелях». Да, это действительно так. Осторожный, замкнутый, по всей вероятности, либо никогда не знавший женской любви, либо знавший и испугавшийся навеки. Чуждый всякой брутальности, образованный, утонченный человек, автор сложнейшей прозы, скорее фантастической, чем реалистической.
Гоголь искренне пытается полюбить этих богатырей, этих людей, для которых сила превыше всего. И правда, и честь тоже, конечно, но не будем отрицать того, что правдой, верой они чаще всего прикрывают собственные звериные разгулы. Это всё демагогия насчет веры и правды. И гибнет Тарас Бульба довольно глупо, из-за люльки, которую он хотел подобрать. Но это тоже доказывает, что для него предрассудки выше разума, честь выше прагматики. Для неприемлемо бросить люльку, чтобы она досталась ляхам: «Не хочу, чтобы люлька досталась ляхам!». Это очень жесткое разделение на свой-чужой. Люди, для которых, конечно, честь выше совести. Для них Гоголь пытается подобрать максимум романтики, оправданий.
Вот эта попытка полюбить звероватых сильных людей, которая исходит от человека книжного, рассудочного. Ведь Бабель страстно хочет стать таким, как герои «Конармии», но путь к этому признанию, к тому, как он пишет, чтобы «казаки перестали провожать усмешками меня и мою лошадь», лежит через отказ от собственной личности, к сожалению. Он лежит через убийство (пусть это даже убийство гуся в рассказе «Мой первый гусь»), через отказ от собственных моральных установок. Иван Акинфиев, главный садист среди конармейцев, кричит Кириллу Лютов, протагонисту Бабеля: «Ты молокан, ты патронов не залаживаешь!». Имеется в виду ― не закладываешь. Лютов не хочет стрелять по людям. А молокан ― это обозначение сектанта, гуманиста, человека религиозного. Для них-то ни Бога, ни черта уже нет.
Конечно, попыткой их полюбить Бабель отказывается, к сожалению, от собственной идентичности. Он вынужден признать, что в «Конармии» от утрачивает лицо. По большому счету, вся «Конармия», цикл рассказов (или роман, как ее называют), это рассказ об утрате лица, о попытке слияния с массой и о безнадежности этой попытки. Понимаете, это же время разделений, когда даже по семье проходит страшная трещина. Посмотрите на описание страшной, с вытаращенными глазами семьи в гениальном рассказе «Письмо», где сначала отец пытает сына, попавшего к нему в плен, а потом другой сын мстит ему, пытая отца: «Что, хорошо было ему в ваших руках, папа? Теперь вам будет нехорошо в моих руках». Это довольно страшный рассказ о трещине, которая проходит через монолит, а потом монолит срастается, как по живому. Полюбить не получилось, Бабель так и не стал своим.
Вторая тема, которая мне кажется даже более важной. И в «Конармии», и в «Одесских рассказах» тема «Тараса Бульбы», хотим мы того или нет, это тема отца, убивающего своих детей. Это тема ветхозаветная, в общем-то. Я не говорю, что это тема Авраама и Исаака. Вообще, в Библии тема отношений чрезвычайно болезненна. Достаточно вспомнить классический анекдот, когда еврей приходит к раввину и говорит: «Рабби, что делать, мой сын принял христианство!» ― «Господь сочувствует вам, но у него те же проблемы».
Вот здесь та же самая история. Это крушение мира, в котором отец ― главная ключевая фигура. Это крушение мифа об отце, крушение патриархального мира. В этом мире по-настоящему восставший сын ― это, конечно, Андрий, который предпочел любовь. Но и Остап, который обречен, тоже наглядно показывает, что мир отца, мир прежних ценностей кончился. Пришло что-то другое. После «Тараса Бульбы» мир будет другим, в этом-то и ужас.
Бабелевский мир, мир «Одесских рассказов» и «Конармии» ― это мир, где кончилась власть отцов. В «Письме» дети пытают отца, в «Закате», центральном произведении одесского цикла, двое сыновей Менделя Крика восстают против своего отца. Это, по большому счету, и есть крах ветхозаветного мира. Об этом рассказывал Гоголь в «Тарасе Бульбе», об этом рассказывает Бабель в «Одесских рассказах» и «Конармии».
В «Одесских рассказах» все друг другу свои. В Одессе даже налетчики грабят жертву со всем уважением. Ей пишут сначала подробное вежливое письмо, чтобы жертва положила деньги под водовозную бочку. Если она их не кладет, ей подробно объясняют, в чем она не права. Замечательный диалог в «Одесских рассказах», которые тоже начали печататься в 1924 году в одесской газете «Маяк», когда Рувим Тартаковский, жертва налета Бени Крика, ему кричит: «Хорошую моду себе взял ― убивать живых людей!». Это всё происходит в рамках одной общности. Все друг другу свои.
А в мире «Конармии», в страшном мире все друг другу чужие. Это мир непоправимых разделений. Бабель (Лютов) ― чужой конармейцам, поляки чужие казакам, евреи чужие всем. Массовым истреблением евреев все опять заканчивается. Это мир, в котором нет никакой общей платформы, не о чем договориться. Самое страшное разделение показано, пожалуй, в рассказе «Иваны», где дьякон Иван, дезертир, попадает в лапы тому же самому Ивану Акинфиеву, который везет его в трибунал, но ясно, что он замучает его сам по дороге. Дьякон симулировал глухоту, и теперь Акинфиев все время стреляет у него над ухом из пистолета с тем, чтобы вызвать у него глухоту. Страшная мольба дьякона «Отпишите супруге моей в Касимов, пущай она плачет обо мне». Вот это два лика России: зверский лик Ивана Акинфиева и кроткий лик дьякона. Между ними не может быть ничего общего, никакой общей платформы нет. Россия непоправимо чужая для всех и все непоправимо чужие друг другу. Это, собственно говоря, и есть главная мораль «Конармии».
Каким рисуется Бабелю выход, сказать очень трудно, потому что, как многие правильно замечали, мир Бабеля ― это мир, в котором власть Отца кончилась, а власть Христа не началась, Христос не пришел. Правда, есть у меня одно кощунственное соображение касательно «Одесских рассказов». Действительно, на смену Менделю Крику, который даже среди биндюжников считается грубияном, пришли его сыновья, прежде всего Беня. Беня ― это центр нового жанра, плутовского романа. Плутовской роман начался в России с Хулио Хуренито и его учеников, затем продолжился в Бене Крике, разумеется, продолжился у Ильфа и Петрова, у Катаева в «Растратчиках», у нескольких замечательных авторов сразу. Конечно, Бендер ― наиболее важная здесь фигура. В «Ибикусе» у Толстого это Невзоров.
Главной фигурой двадцатых годов оказался плут. И вот здесь я задумываюсь, почему. Дело в том, что плутовской роман, и это особенно видно на примере Бени Крика и Хулио Хуренито, ― это мир, в котором вместо страшного мира отца-патриарха предлагается по-своему милосердный, шутовской, пародийный мир плута. Отсюда недалеко до страшного вывода о том, что первым плутовским романом в истории человечества было Евангелие. Христос ― это тоже трикстер, великий шутник, который ходит по воде, превращает воду в вино, говорит притчами (говорит мало, но смачно). В общем, Беня Крик, конечно, христологическая фигура. Он пытается договориться, избежать убийства, вместо страшного силового управления отцовским извозом насадить какие-то человеческие, более-менее рациональные правила. И он тоже обречен. Ясно, что его убьют. Его убивают в сценарии, который Бабель написал, имея, конечно, в виду судьбу Япончика. Гибнет Хулио Хуренито, не гибнет, но полный крах терпит Бендер. Плут обречен именно потому, что он пытается острить в этом несмешном мире, пытается смягчать его парадоксом. А самое главное, мир плутовства ― мир высокой пародии, как и само Евангелие пародийно по отношению к Ветхому завету. «До семи ли раз прощать? Нет, до семижды семидесяти раз».
Мир «Конармии» лишен этого светлого, примиряющего, если угодно, шутовского начала. Это мир тошнотворно серьезный. Единственная фигура в нем, которая как-то претендует, может быть, на какое-то добро и примирение, это фигура самого Лютова. Но Лютов слишком конформист для того, чтобы в этом мире что-то изменить. Он хочет быть как они, и в этом его беда. Поэтому сам он выживает, а душу свою теряет безнадежно. «Конармия» ― это история о том, как интеллигент потерял лицо, тщетно пытаясь избавиться от своего человеческого содержания.
Прижизненная критическая судьба Бабеля была довольно счастливой. Его почти сразу приняли как классика, но был один человек, который наехал на него, принялся его топтать с абсолютно копытной убежденность. Это Буденный, тот самый, который выведен у него вроде бы легендарным, безмерно положительным, безмерно чтимым героем, но Буденный точно почувствовал бабелевское отвращение к грубости конармейского быта, к собственной пошлости, собственному самолюбованием. Буденный там выведен, конечно, немного Петрушкой. Он написал большую статью: «Бабизм Бабеля». Горькому пришлось за Бабеля вступаться.
Самое удивительное, что Бабеля называют бардом мирового еврейства, а между тем как раз Троцкий, человек, который и был в революции носителем еврейского мстительного начала, тоже очень не полюбил Бабеля. Он написал, что «Бабель, рассматривая огромное тело революции, увидел только ее половые части». Это чудовищная глупость, конечно, но ничего не поделаешь: Троцкому нравилась героика и романтика, а Бабель предпочел описать самый неудачный поход, польский, участником которого он и был. Поход, который кончился поражением и крахом мифа о мировой революции. Поэтому со стороны начальства, к сожалению, наблюдался серьезный скепсис. Не знаю, насколько справедливы бабелевские рассказы о его встречах со Сталиным на даче Горького, но Эренбург вспоминает, что Бабель вернулся мрачный и сказал: «Плохо дело, друг мой. Я не понравился».
Он не умел нравиться этой публике, потому что, чтобы нравиться ей, надо было быть нелюдем, а Бабель был человеком. Это сделало его замечательным писателем и жертвой этих чудовищных времен.
Последнее, что здесь следовало сказать, конечно, это то, что если не брать в расчет очень сложных библейских или иных коннотаций, отсылок, цитат Бабеля, если наслаждаться просто его стилистикой, безусловно, он самый яркий писатель двадцатых годов, потому что, как сказал он, «точка, поставленная вовремя, бьет сильнее пули». Лаконизм Бабеля ― у него некоторые рассказы по полстранички, великолепие его речевых характеристик, его любовь к одесскому быту и нелюбовь к зверству ― всё это сделало из него фигуру самую обаятельную для 20 годов. Именно поэтому в 30 годы творчество его фактически прекращается. Книга новелл о коллективизации «Великая Криница» остается незаконченной, ее изымают при аресты, мы не знаем до сих пор, где она. Роман о чекистах, над которым он работал в последние годы, ему не удавался, по всей вероятности, он никогда бы не закончил его.
В общем, в мире, где все меньше становилось кислорода, Бабель замолчал. Он называл себя великим мастером молчания. Именно поэтому то немногое, что он написал и опубликовал, до сих пор для нас остается невероятно притягательным. В каком-то смысле его молчание, его исчезновение остается главной травмой советской литературы.