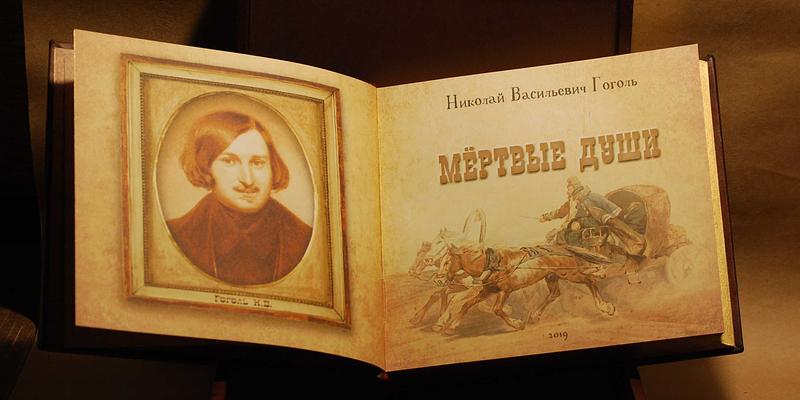В чём причина его поразительной аттрактивности, его привлекательности? «Беня говорит мало, но он говорит смачно. И когда он говорит, хочется, чтобы он сказал что-нибудь ещё». Вот Бабель сказал мало, но смачно, и хочется, чтобы он говорил ещё. И русская литература живёт надеждой обнаружения его текстов, изъятых при аресте в 1940 году. Но дело в том, что феномен Бабеля пока ещё не освещён, не разработан. Я сейчас буду говорить вещи опасные, крамольные. В них, наверное, есть какой-то вызов, но мне так кажется.
Один из главных парадоксов — то, что у меня в книжке про Маяковского названо «шоком 20-х» — заключается в том, что главным героем 20-х годов стал не победивший пролетарий или не сопротивляющийся белый, а главным героем 20-х годов стал плут. Расцвет пикарески, расцвет плутовского романа. Я знаю только одну, к сожалению, работу на эту тему (сейчас я на неё сошлюсь), но совершенно точно могу сказать, что не пролетарий, а именно Хулио Хуренито, или Форд из замечательного романа Берзина, или, допустим, Невзоров из «Ибикуса» стали главными персонажами литературы 20-х. Почему? Потому что клоп, таракан выживает в любом катаклизме. Но не только в этом дело.
Дело в том, что Беня Крик, например,— главный бабелевский герой, герой «Одесских рассказов» — это герой такого нового ветхозаветного эпоса. Ведь что произошло в «Одесских рассказах»? Это в основном и в сценарии «Беня Крик», и в гениальной пьесе «Закат», которую Маяковский так любил вслух читать. Там история о том, как рушится ветхозаветный мир, как дети восстают на отца, как мир отца, только что построенный или давно построенный, но шатающийся, как он рухнул и накрыл собой всех. Есть подробная работа Миленко «Плутовской герой советской прозы». Это единственная известная мне работа, где прослежены типологически эти герои-плуты: Хуренито, Ибикус, Бендер, конечно и в первую очередь, и Беня Крик, он из той же породы.
Дело в том, что это (страшную вещь сейчас скажу!), конечно, в жанре высокой пародии выполненная, пародийная, травестийная версия Евангелия. И тогда получается, что Евангелие по отношению к Ветхому Завету — это первый плутовской роман в литературе. Это не значит, что Христос — это образ плута, трикстера. Нет, это значит, что он — образ великого нарушителя, «великого провокатора», как называют Хулио Хуренито. Хулио Хуренито с учениками — конечно, христологическая фигура.
И Беня Крик — это такая же фигура, такая же попытка заменить отца, попытка выжить в мире, в котором отца больше нет. Он же ниспровергает отца, по сути дела, вместе с братом своим. И в результате он, кстати говоря, как и Бендер, как и Хулио Хуренито,— это фигуры жертвенные, фигуры обречённые. Беня Крик обречён погибнуть. Почему? Потому что в мире, лишённом отца, нет больше закона и нет места ему. Он со своим трикстерством, со своим плутовством не может удержать расползающийся мир, поэтому в сценарии он и гибнет. Беня Крик порождён этой революцией. И Беня Крик — жертва этой революции.
Что касается стилистики Бабеля, которая так привлекательна и так неотразима. Я думаю, это тоже стилистика на 90 процентов ветхозаветная. Бабель получил талмудическое образование, прекрасно знал Библию, многому у неё научился. Я думаю, что бабелевский стиль — это синтез французского натурализма Мопассана, Золя (но Золя, конечно, в большей степени натуралист) и ветхозаветной стилистики. То есть это, грубо говоря, французский натуралистический роман, грубый и жестокий, изложенный в стилистике Ветхого Завета с такими долгими тяжеловесными периодами. Как-то христианства, мне кажется, Бабель не чувствовал вообще. Отсюда и его достаточно кощунственные тексты, вроде, например, «Сашка Христос» или «Иисусов грех». Я думаю, что настоящее христианство он не то что не любил, он просто не чувствовал его. Но главная тема Бабеля, конечно, главная трагедия Бабеля — это патриархальный мир, в котором рухнул отец, в котором нет больше отца.
В чём отличие мира «Одесских рассказов» от мира «Конармии»? Главное различие в том, что в мире «Конармии» все друг другу чужие, а в мире «Одесских рассказов» все свои. Налётчики дружелюбно грабят, даже дружелюбно убивают. Ну, как-то действительно все друг другу свои. Желая получить от Тартаковского выкуп, Беня отправляет ему любезное письмо, он пишет: «Если вы не заплатите, с вами случиться такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет о вас говорить». А Тартаковский ему отвечает: «Беня, если бы я знал тебя за идиота, я бы написал тебе, как идиоту, но я знаю тебя за умного». То есть они все находятся, как говорил Искандер, «в едином строматическом бульоне» — все плавают в атмосфере благодушия, праздности, воровства, бандитизма, торговли, южной лени, секса и так далее. Все друг другу свои. Мир «Одесских рассказов» — это мир, зачаровавший Бабеля общей патриархальной культурой.
Вот эта культура рухнула. Рухнул мир, в котором все могли договориться. И начался страшный мир «Конармии», в котором Бабель, притворяющийся Кириллом Лютовым (под этим псевдонимом он писал в «Красном кавалеристе»), хочет стать своим, хочет добиться, чтобы люди перестали смеяться вслед ему и его лошади, с помощью убийства гуся в «Моём первом гусе» он пытается стать своим для людей. Евреи чужие всем — и полякам, и конармейцам. Украинцы чужды русским. Белые ненавидят красных и не могут договориться. Между начдивами постоянные конфликты. Это мир тотального отчуждения, в котором только жестокостью можно купить какую-то легитимность.
Возьмите семью в рассказе «Письмо», где по семье прошла трещина, где сначала дети пытают отца, а потом отец пытает детей. «Хорошо было Сашке в ваших лапах? Вот теперь вам будет плохо в моих, папаша!» И страшные эти люди со страшными вытаращенными глазами! И скромный маленький еврей Гедали, мечтающий об Интернационале добрых людей, он не может этот Интернационал найти — ничто никого не связывает. Вот это же ощущение взаимного мучительства проходит и в совершенно замечательном рассказе Бабеля «Иван-да-Марья», когда там: «Меня царапай,— говорит главный герой,— но Россию ты оскорблять не можешь!» И в этой же самой России такие же русские, как он, убивают его, потому что нет никакой общей основы, никакого нового базиса, на котором можно было бы договориться.
Мне кажется, что типологически Бабель наследует Гоголю. Просто он не успел написать своих «Выбранных мест из переписки с друзьями», но, безусловно, он к этому шёл. Мне кажется, что Бабель, как и Гоголь, обладает повышенной способностью к созданию художественных топосов, к созданию и формированию миров. Вот как Бабель создал Одессу, так же Гоголь создал Диканьку, выдумал Украину. До сих пор вся Украина разговаривает фразами из Гоголя. Соответственно, фразами из Бабеля разговаривает вся Одесса, живёт в рамках созданного им мифа.
Аналогом «Конармии» мне представляется «Тарас Бульба». Почему я пришёл к этой мысли? Как раз благодаря одному из ваших вопросов, где меня спросили: «Ведь Гоголь ненавидит по большому счёту жестокость. Почему же он упивается характером Тараса?» А это попытка интеллигента полюбить зверство, попытка интеллигента полюбить жестокость. Гоголь не восхищается нравами Сечи, но он как Гомер российской словесности, как его называли, пытается беспристрастно воспеть величие, воспеть зверство. И всё равно у него не получается! Всё равно у него получается, что А́ндрия жалко, и Остапа жалко, который погибает, и Тараса жалко. Всё равно жалость к убитой, изуродованной, утраченной жизни побеждает. И всё равно у Гоголя жалко всех. Точно так же и когда какого-нибудь начдива — с огромными ногами, с огромными каблуками, мощного такого кентавра!— воспевает Бабель, мы всё равно чувствуем в «Конармии» больше жалости к людям, нежели упоения зверством. Это попытка интеллигента полюбить и воспеть силу.
Как правило, эта попытка заканчивается довольно трагически, заканчивается она довольно беспросветно. И «Тарас Бульба» — трагическое произведение. Оно, конечно, и о русской силе, и о русской воле, но и о трагизме, и о бессмысленности жертвы, и о бессмысленности гибели. Всё равно это там есть. И всё равно А́ндрия жалко, ничего с этим не сделаешь. И когда Гоголь говорит: «Найдутся ли на свете такие огни и муки, которые переселили бы русскую силу?» — мы понимаем его восхищение. Но пониманием и то, что всё-таки человечность, гуманизм в нём сильнее этого трудного звука, этого звона литавр, на котором вся эта вещь и стоит. И, конечно, прав Антон Чиж в своём исследовании… Нет, не Антон, вру. Прав Владимир Чиж в своём исследовании о «Тарасе Бульбе», что во второй редакции уже больше демагогии, а меньше человечности. Мне кажется, что и в «Конармии» Бабель всё время пытается заставить себя полюбить чужое — и не может. Всё равно он не выйдет из своих интеллигентских убеждений, как бы он ни пытался их сломать.
В «Конармии» он об очень многом проговорил. Ведь именно в «Конармии» появилось это замечательное выражение «извилистая кривая ленинской прямой» — совершенно точный образ ползучего ленинского прагматизма. Я уже не говорю о том, что замечательный бабелевский лаконизм, замечательные бабелевские лакуны, недоговорённости — это тоже способ писать такую литературу, которая, формально оставаясь очень просоветской, всё о катастрофе, о зверстве гражданской войны рассказала.
По-моему, самый лучший и самый страшный рассказ Бабеля — это «Иваны». Это рассказ о двух ликах русского народа — о дьяконе Иване Аггееве и о конвоирующем его другом Иване, который постоянно стреляет у него над ухом, проверяя его глухоту. Дьякон дезертировал, и вот его поймали… То есть вру я. По-моему, там фамилия дьякона другая, а Иван Акинфиев — это конвоирующий его как раз солдат. Ну, у меня сейчас нет перед глазами текста. Это два Ивана, два лика народа, один из которых — несчастный беглец, который просит отписать супруге в Касимов, что его замучили, а второй — тот самый злобный казачок. Помните: «Стоит Ваня за комиссариков. Ой, стоит…»,— когда этот Акинфиев кидается, якобы контуженный, он рвёт на себе рубашку и кричит: «Кровиночка ты моя горькая, власть ты моя советская!— и дьякону говорит: — Я себя порешу, но и тебя порешу!»
Вот эти два лика Бабель запечатлел с абсолютной чёткостью и зоркостью, которые доступны только чужаку. Потому что он сюда пришёл, конечно, как чужой. Он пришёл из Одессы, где совсем другой мир, и попал в этот страшный лёд взаимного отчуждения. Мне кажется, что прав Искандер — тоже фигура, типологически наследующая и Гоголю, и Бабелю. Искандер абсолютно точно сказал: «Почему большинство сатириков и юмористов южане по происхождению? Потому что южанину на севере ничего, кроме юмора, не остаётся». Юмор — это след, который оставляет человек, заглянувший в бездну и отползающий обратно. Бабелевский юмор — это юмор южанина на севере. И, конечно, покидать юг не следует. И не следовало бы представителям Южной школы переселяться в Москву, но, к сожалению, в Одессе было не выжить. Поэтому и Бабель, и Катаев, и Олеша поехали в Москву для того, чтобы всю жизнь тосковать по Одессе.
Мне хотелось бы отметить напоследок два бабелевских текста, которые как-то выпадают обычно из поля зрения читателей и историков литературы. Это замечательная пьеса «Мария», где Мария ни разу не появляется. Это тот образ грозной воинственной женщины. И, конечно, это его последнее произведение — сценарий «Старая площадь, 4».
Это сценарий о том, как старого большевика назначают руководить заводом дирижаблей. Дирижабли эти взлетают, но не садятся, потому что нет связи между головой и хвостом, не срабатывает руль. Там очень прозрачная метафора. Этот старый большевик собирает для строительства дирижаблей людей — социальных аутистов, аутсайдеров, маргиналов, абсолютно выброшенных из жизни. И конструктор этого дирижабля — сумасшедший старик-учёный, типа Циолковского. И поварихой он берёт старую, трогательную и никому не нужную еврейку. И комсомолка там идейная (такой прообраз девочки Нади из шпаликовского сценария), слишком идейная, чтобы быть с большинством, слишком романтичная. И вот дирижабли могут строить только такие люди — люди не то что не укоренённые в жизни, а люди маргинальные по своей природе. Такая воздушная летающая вещь, как дирижабль, не может быть построена прагматиком, не может быть построена нормальным человеком.
«Старая площадь, 4» — это очень хорошая повесть. Я всю жизнь мечтал этот сценарий поставить. То, что главный, лучший сценарий Бабеля (помимо «Бени Крика») не поставлен до сих пор — это, по-моему, большое упущение. У нас потому так мало всего романтического, воздушного и летающего, что мы не привлекаем маргиналов к главному. А только маргиналы на самом деле могут создать что-то превосходное и воздушное.