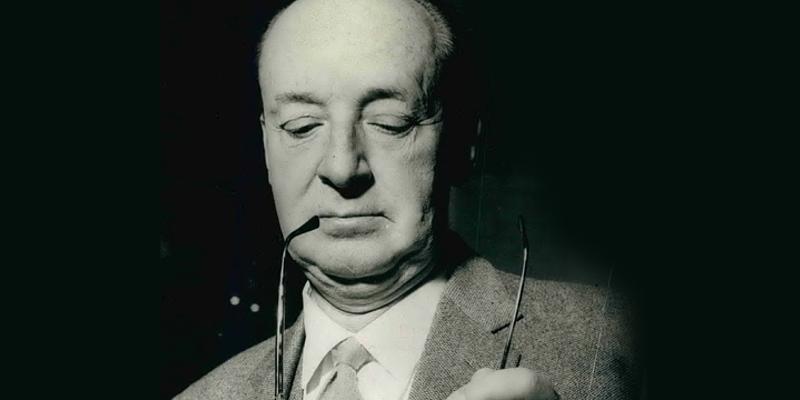Слушайте, сколько угодно! Например, после «Бедной Лизы»:
Под камнем сим лежит Эрастова невеста:
Топитесь, девушки, в пруду довольно места.
То, что волна женских самоубийств на почве несчастной любви, причем не только среди простолюдинок (простолюдинки не читали Карамзина), вполне себе имело место. Более того, многие волны суицидов и вообще такого жизнестроительства в подражание литературе очень характерно для Серебряного века. Сколько народу – и об этом Леонид Мартынов пишет в «Воздушных фрегатах» – перестрелялось после самоубийства Отто Вейнингера. Насчет литературных героев – тоже бывало. Анна Каренина не вызвала такой волны, но тем не менее… Просто потому что смерть под поездом – это самоубийство довольно травматичное. Но сколько народу из-за несчастной любви кончало с собой, по преимуществу травясь морфином, – о чем говорить, тут нечем удивить русскую литературу.
Русская литература, наоборот, всегда усиленно подражала жизни. За это она могла вызвать такую же волну подражания среди студентов, традиционно очень впечатлительных. То есть русская литература всегда прикасалась к самым болезненным вопросам бытия. Немудрено, что реакция на русскую литературу тоже была болезненной и страстной. Как писал Пьецух: «Во всем мире из-за Гегеля спорили, а в России дрались на дуэли». Здесь примерно та же история: подражание Базарову, хождение в народ по примеру героев «Нови», подражание Рахметову, – я думаю, что как раз попытка делать свою жизнь по литературе для романтических эпох вообще святое дело. Поскольку очень многое в Серебряном веке было таким неоромантизмом, постромантизмом, я думаю, здесь прямая связь.
Гумилев не зря выстраивал свою жизнь как образец: он знал, что ему будут подражать. Одни поедут в Африку, другие вступят в заговор. Гумилев вел себя так несгибаемо во всех ситуациях жизни, потому что понимал, что по его текстам и его жизни, по этим лекалам его читатели будут строить свою собственную жизнь. И я думаю, что по Гумилеву свою жизнь строило больше народу в России, чем по товарищу Дзержинскому. Помните: «Скажу, не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского». Я бы любому посоветовал делать ее с Гумилева. Прежде всего потому, что Гумилев все время ставит перед собой вопрос: «А смогу ли я вот это?». Поэтому он действительно перед минутой опасности чувствует себя как очень старый пьяница перед бутылкой очень старого коньяка, как писал он в «Записках кавалериста». И не ошибался. Лозинскому он тоже писал об этом. Чем трусить перед опасностью, лучше ставить вопрос «а выдержу ли я?».