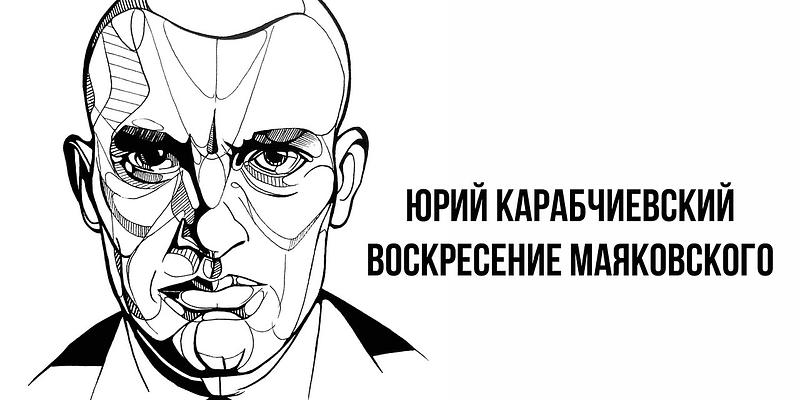Мне очень понравился этот роман: я считаю, что «Спрингфилд» – это замечательный роман. Просто как всегда, его не за то хвалят, и он не потому интересен. Не потому, что это квир-проза. Я, как вы понимаете, к квир-проблематике совершенно равнодушен. Она меня не раздражает, не отталкивает, не увлекает. Есть и есть.
Точно так же, как я выступал в очень хорошем американском универе и спросил студентов, что они читают. Спросил, чтобы как-то стратегию лекции выстроить к их интересам. Одна девочка говорит: «Я очень люблю читать про домашние роды». Я говорю: «Но ведь домашние роды не могут быть универсальной темой». Другая говорит: «Я не люблю про любовь, я люблю фэнтези, прежде всего Терри Пратчетта». Я спрашиваю: «А почему же вы не любите про любовь?» «По моему глубокому убеждению, – говорит она, – любовь – это выдумка; меня интересует вот такая фантазия, воображение».
Вот как раз как фэнтези, как домашние роды для меня где-то за гранью интересов, точно там же находится квир-проблематика. Пусть она увлекает людей, которых она непосредственно касается. Как говорил, по-моему, Джеймс Болдуин, автор «Комнаты Джованни»: «Я не писатель-гомосексуалист, а писатель, случайно родившийся гомосексуалистом». Но роман Давыдова – совсем молодого автора – он просто очень хорошо написан, это замечательная проза. На уровне ткани прозы это превосходное повествование. Нет лишних слов, нет сленга, поразительно точные картины поволжских городов, замечательно прописаны отношения с матерью, великолепные типажи вот этих людей, собирающихся в заброшках, этих девчонок, общажные типы там замечательные. Просто это проза очень высокого класса, материя очень высокой выделки.
А что это имеет какое-то отношение к квир-проблеме… Понимаете, меня Кушнер в свое время научил очень полезному приему. Я ему говорю: «Понимаете, я очень люблю Кузмина, но мне сложно идентифицироваться с его лирическим героем, потому что все эти однополые страсти как-то меня не затрагивают абсолютно». А он мне говорит: «Кто вам велел идентицифироваться, ассоциироваться с однополыми страстями? Вы представьте себе, что это написано о совершенно нормальной, просто очень сложной любви»: «Я жалкой радостью себя утешу, купив такую шапку, как у вас». А кто вам сказал, что это мужчина пишет мужчине? Может быть, это женщина пишет мужчине? Представляйте себе, играйте в это, ведь это прекрасный текст, безотносительно его квир-проблематики. Я попробовал – да, действительно, очень хорошо получается.
Конечно «Спрингфилд» сейчас в России не может быть издан, но не волнуйтесь, он себе дорогу найдет… Так вот, я читал этот роман как историю взаимоотношений сложного мальчика, от чьего имени идет речь, со сложной девочкой. Тем более что там этот Матвей по капризности, по ранимости, по нежности, конечно, такое существо… не скажу женственное, но небинарное. Тем более, я только что закончил роман про любовь мальчика к своей внутренней девочке, что, конечно, с онанизмом не имеет ничего общего. Просто он любит одну из своих душ, одну из своих множественных личностей. Она даже не результат его воображения, она существует. Как в Цветаевой существовало несколько душ, как в Кирсанове – авторе «Поэмы поэтов» – жило несколько человек, которых он попытался персонифицировать.
К концу ХХI века концепция личности изменится радикально. Мы будем принимать как факт то, что в человеке не одно «Я», а то, что этих «Я» несколько. И любовь к внутренней девушке – это нормально: ее не надо провожать, ее не надо уговаривать. А те, кто любит внешних девушек, будут называть аутистами, потому что это скучно – out-девушка. Вообще любовь ко всему внешнему миру немножко ущербна.
Поэтому у меня не было трудностей читать роман «Спрингфилд», и я Сергея Давыдова горячо поздравляю с тем, что это очень хорошо написано. Его следующий роман, я думаю, будет гораздо социальнее и будет написан еще лучше. А модная квир-проблематика там будет присутствовать лишь как тень. Автор пишет о том, что его волнует, что для него болезненно. Он имеет право об этом писать. Но любим мы его не за это. Потому что как бы автор ни разбирался со своими комплексами, критерием уместности, критерием шедевра становится художественное качество.